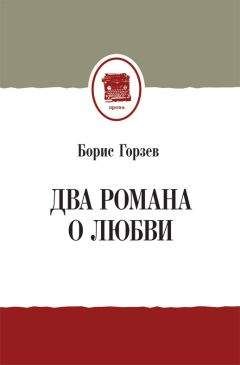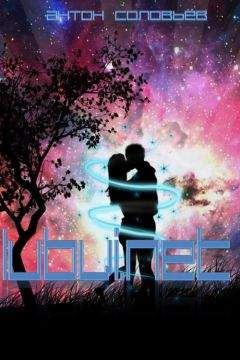Борис Карсонов - Узник гатчинского сфинкса
— Сеньор, все одно лошадей нет и едва ли скоро будут.
Скрепя сердце, Коцебу согласился. Вот что впоследствии он записал об этом в своей записной книжке:
«Истинный смысл и значение этого праздника я никогда не мог постигнуть. Форма же его была такова. В семи верстах от города, подле развалин старинного городища, стояла деревня Курганная, куда мы однажды с Ванюшей ходили на охоту. В деревне той была часовня, в коей хранилась икона божьей матери. Эту икону выносили из часовни и несли в город. Из города выходили ей навстречу, неся с собою тоже образ святого. И затем, встретив, сопровождали первый образ в городскую церковь. А вечером его уносили обратно в деревенскую часовню.
…Мы встретили деревенский образ около городской черты. Его несли шесть девушек, очень красивых, со священником впереди. Все пели и крестились.
Образа двух святых преклонили один перед другим, затем мы все пошли обратно в город и поставили деревенский образ в городскую Троицкую церковь. После этого я побежал домой, чтобы окончить приготовления к отъезду…»
У дома он увидал Соколова. Тот сидел на скамеечке, обхватив голову руками.
— Ванюша, — тихо позвал его Коцебу.
Потом он забежал в дом и вынес ружье с охотничьей сумкой и всеми принадлежностями и припасами.
Соколов молча принял подарок. В его положении подарок был сей щедр, но, казалось, он его не радовал.
— Прости, брат… Так уж случилось. Понимаю, обнадежил, предал тебя, дружбу нашу… Но что делать? Я прошу, я умоляю тебя, Ванюша, напиши хотя бы несколько строк семейству своему. Клянусь всеми святыми, я доставлю твое письмо в руки…
Соколов отрицательно покачал головою.
— Побойся бога! Три года твои ничего о тебе не знают…
— Не могу! Не могу! Не могу! Я дал слово не искать побочных путей общения… — прошептал Ванюша и отошел, но при этом так посмотрел, так посмотрел… Это был взгляд умирающей собаки, которая знает, что умирает, но сказать о том не может.
Подали лошадей. Грави вручил драгуну казенную бумагу. Она дошла до нас. Вот ее полный текст:
«Правящего должность городничего города Кургана де Грави Тобольскому гражданскому губернатору и кавалеру Кошелеву
РапортОрдер Вашего Превосходительства, от 4 июля под № 237-м, с изъяснением имянного Его Императорского Величества повеления об отправлении в немедленном времени состоящего в присмотре г-на Коцебу с нарочным рядовым Деевым в Тобольск в 7-й день июля получен.
Во исполнении повеления Вашего Превосходительства означенный г-н Коцеба с нарочным Деевым при сем к Вашему Превосходительству представляется.
Что же касается до снабжения его для дороги нужными потребностями, на это г-н Коцеба отозвался мне, что он ни в чем надобности не имеет. О чем Вашему Превосходительству и доношу.
В должности городничего уездный судья
Федор де Грави.Июля 7-го дня,
1800 года».
Драгун Деев, с кривой саблей на боку и с перьями на шляпе, был недоступен и снисходителен, как генерал. Он с важным видом прохаживался перед раскрытыми воротами дома, небрежным, на отлете, жестом подкручивал усы и, казалось, совсем был безучастен к тому, что творилось подле заложенной кибитки.
— Вы уж, Федор Карпыч, не обессудьте, — говорила старуха Пластеева, подавая ему еще горячие, завернутые в широкие лопухи и холстинку, пироги.
— Бабушка! — пытался протестовать Коцебу.
— Не маши, не маши на меня, дорога, чай, вон какая далекая…
— Петя, милок, нако вот вам жареных карасиков. Уж до чего хороши, дьявол их возьми! Жирные, как индейки, вот те крест!
— Данилушка, да тебя сам бог послал! — Росси дружески хлопает Хворостова по плечу, принимая у него плетенку с карасями.
Михаил Егорович Бочагов принес приготовленных в горчичном соусе цыплят; Иван Гаврилович Ионин — копченый окорок.
Чуть в сторонке, у коновязи, Коцебу увидал Степаниду Маеву. В белом платочке, сарафан в широкую красную полосу, а на ногах — красные башмачки с медными пряжками. Она стояла с каким-то узелком в руках, не смея подойти ближе.
— Степка? — позвал ее Коцебу.
Девушка подошла и, не глядя на него, протянула тяжелый узелок.
— Что это? — удивился Коцебу.
— Тут… это, ну, корчажка, вот, — заливаясь краскою, тихо сказала Степанида.
— О! — Сказал Росси, перехватывая узел. — Молоко. Топленое. С пенкой! Молока нет — берем. Мадемуазель, целую ваши ручки! — И ведь изловчился и поцеловал, но не красные, изработанные и загорелые девичьи руки, а упругие порозовевшие щечки.
Грави сам положил в передок возка коробку с белым хлебом и несколькими фунтами масла.
— Ни хлеба, ни тем более масла такого вам, Федор Карпыч, более не едать. Нет! Бывал я в Европе, знаю. Однако же такого разнотравья, как тут, в Европе не найти. А коровка, божье создание, языком красна.
Кто-то настойчиво предлагал взять вяленой рыбы, кто-то горшки с огурцами и вареной картошкой.
Чуть позже на одной из почтовых станций, Коцебу достанет свой дорожный дневник и появится вот такая запись:
«Едва я был в состоянии благодарить жителей Кургана за выказываемое ими мне расположение. Мне бы пришлось идти пешком около кибитки, если бы я взял с собою все предлагаемые мне подарки.
Да благословит вас бог, русские люди!..»
Откуда ни возьмись, появился Иуда Никитич с пуншем. По русскому обычаю все присели. Кружка с пуншем пошла по кругу. Поцелуи, напутственные слова, клятвенные обещания. Наконец, ямщик ударил вожжами по гладкому крупу лошадей. Толпа провожающих расступилась.
— Ванюша! Где Ванюша? — закричал Коцебу.
Соколова кликали, искали, но не нашли.
Грави сел подле Коцебу. Добрый старик непременно желал проводить за городскую черту. Проехав мост через Быструшку и потом еще с версту длиною, лошадей остановили. Грави трижды расцеловался со своим узником и пошел в город. Но тут же вдруг опять вернулся, с жаром пожал руку Федора Карпыча, перекрестил, сказал: «С богом!» И пошел, уже более не оглядываясь и не останавливаясь. Но теперь Коцебу не трогался с места. Он глядел на маленькую фигурку старика и видел его еще долго, пока тот не достиг моста.
В погожем летнем небе над городом шли светлые облака, как обещание ожидаемой радости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И вот она снова Москва! Теперь уже не на каком-то казенном подворье остановился наш пилигрим, а подъехал прямо к двухэтажному зеленому дому Шмита, что на Никольской улице. Окна нижнего этажа были раскрыты. В одном из них на миг мелькнуло чье-то лицо, и вскоре на крылечке появился молодой человек в белом байковом сюртуке нараспашку. Был он росту выше среднего, черноглаз, нос довольно длинен, лоб обширен, на щеках румянец, бакенбарды густы.
Коцебу поспешно спрыгнул с подножки экипажа, с заметной робостью представился…
— А-а, наконец-то! — живо воскликнул молодой человек и с великой простотою и радушием обнял своего гостя и повел в комнаты.
Хоть и взволнован был Август этой давно ожидаемой встречей, все же его внимательный взгляд отметил уют и порядок у молодого хозяина. В средней комнате, выходившей окнами во двор, он невольно замедлил шаги — простенки были завешаны портретами итальянских и французских писателей. Тут были Метастазио, Тасс, Франклин, Буфлер, Дюпати…
Карамзин уселся в стоявшее подле широкого стола вольтеровское кресло, обитое красным сафьяном, указав Коцебу на низкий, не более шести вершков от полу, диван…
Время было расписано по минутам. Днем хозяин знакомил своего гостя с московскими редкостями и стариною московской. Вечерами сидели в его «ученой» комнате с тремя столами, заваленными папками с документами, старинными фолиантами, архивными выписями, свежими журнальными гранками. Уже в то время будущий историограф российский готовил себя на великое поприще.
— Я человек обреченный. По уши влез я в историю российскую и теперь, чую я, нет мне возврата назад. Во сне все Никоны да Несторы…
Говорит Карамзин скоро и жарко, а потому и убедительно. Русская речь его обильно пересыпается французскими и немецкими словами и речениями. И при всей доброте и кротости его характера иногда в высказываниях своих кажется резок, если не сказать… груб. Но только в разговоре, на словах, а не на бумаге. Он вообще почитает не ввязываться в полемику, считая это для себя неприличным.
— Право, затрудняюсь назвать причину, однако недоброжелателей у меня больше, чем об этом можно подумать. Говорят, из зависти пошлостью и грязью обливают. Не знаю… Вот один из недавних анонимных образчиков…
Карамзин порылся на столе и из-под журнальных гранок извлек некий синий листок. Коцебу прочел:
Был я в Женеве, был я в Париже,
Спесью стал выше, разумом ниже.
— И это за ваши знаменитые письма русского путешественника? — поразился Коцебу.