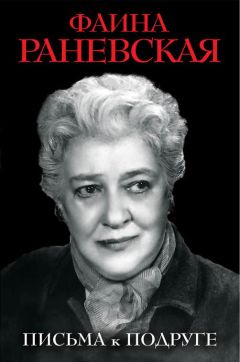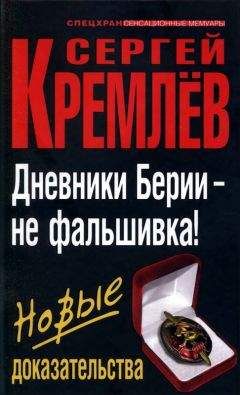Фаина Баазова - ПРОКАЖЕННЫЕ
Каждый день он начинал с утренней молитвы в синагоге: свои пустые бачки он оставлял во дворе. Потом он разносил по домам воду, до следующей молитвы – минхи; пустые бачки опять ждали его во дворе синагоги. После минхи и до самой вечерней молитвы он снова шагал по улицам города со своими бачками. И лишь после вечерней молитвы, когда уже становилось опасно ходить к реке, он возвращался в свою конуру. Так и шло его земное существование между бурлящей рекой и синагогой.
Когда Инди-Бой появлялся у нас со своими бачками, мама всегда сажала его за стол и угощала горячей едой. Так поступали во многих семьях. Не знаю, какова была расценка его услуг, но хорошо помню, что в оплате всегда фигурировал серебряный гривенник. В конце недели или месяца с ним расплачивались исключительно серебряными гривенниками, поскольку деньгами других знаков и достоинств он пользоваться не умел.
Раз уж так сложилась жизнь Инди-Боя, что он питался в домах, куда привозил воду, а больше тратить ему было не на что, то он и копил свои трудовые гривенники в глиняных горшках-копилках на черный день, когда старый и немощный, он больше не сможет таскать воду.
Осенью 1927 года по Грузии прошла первая "валютная кампания". Вначале у людей просто отбирали золотые вещи, потом заподозренных в нарушении правил о валютных операциях стали привлекать к судебной ответственности и приговаривать к разным срокам заключения. Кампания эта приняла особенно острый характер, когда было замечено, что из обращения стали исчезать серебряные монеты.
Строгая секретная директива сверху о "немедленном выявлении злостных нарушителей" поступила, разумеется, и в город Они. В положенный срок найти нарушителей не сумели. И тут кто-то из следственно-прокурорских работников "пошутил" и предложил взять Инди-Боя.
Поздно ночью в гости к Инди-Бою пожаловали работники местного отдела ГПУ. Они обыскали его скудную хибарку, нашли глиняные горшки, не внимая слезам и мольбам Инди-Боя, разбили их – и оттуда на пол со звоном полетели серебряные гривенники, копившиеся еще с николаевских времен. Все они были сосчитаны и добросовестно заактированы. Инди-Боя арестовали и привлекли к уголовной ответственности за "подрыв экономической мощи государства".
Акт, в котором было зафиксировано обнаруженное у Инди-Боя "большое количество серебряных монет", совершенно заслонил живого, всегда полуголодного человека в лохмотьях, который зимой и летом таскал бачками воду. Все знали, что люди кормили его из жалости, и только это и дало ему возможность сэкономить гривенники себе на погибель! Но акт так давил на сознание судебных работников, что совершенно притупил их совесть.
Суд первой инстанции г. Они приговорил Инди-Боя к трем годам заключения. Затем приговор этот, оставленный без изменения всеми высшими инстанциями, вошел в законную силу.
И впервые в своей жизни наивный и богобоязненный Инди-Бой ушел за реку Риони, чтобы этапом отправиться в тбилисскую тюрьму, где он попал в страшный и непонятный для него мир преступного люда.
…По действующему тогда процессуальному закону Народный комиссар юстиции был правомочен опротестовать в Пленум Верховного суда приговор, вступивший в законную силу.
Не знаю точно, как это произошло. Помню только, что Герцель не успокоился до тех пор, пока не убедил Наркома юстиции в абсурдности приговора Инди-Бою и не добился от него решения опротестовать этот неправосудный приговор.
После этого Герцель постарался, чтобы протест по делу Инди-Боя был рассмотрен вне очереди на ближайшем же Пленуме Верховного суда. Он хорошо понимал, что как рыба не выдержит без воды, так и Инди-Бой долго не выдержит без своей реки Риони и своей синагоги и быстро погибнет в тюремной атмосфере. Помимо всего, он не выдержит голода, потому что не только не будет есть трефной тюремной пищи, но не дотронется даже до "гойского хлеба". В тот период еврейская община Они еще не привыкла покупать в магазинах "нееврейский хлеб". Все пекли у себя дома хлеб и кукурузу.
Наконец настал день, когда Герцель держал в своих руках Определение Пленума Верховного суда об отмене приговора и прекращении дела в отношении Инди-Боя. И, чтобы ускорить его освобождение, он сам поехал за ним в тюрьму.
Никогда не забуду того дня, когда Герцель в фаэтоне привез домой несчастного Инди-Боя. В первую минуту мы даже не узнали его: не только голова, но и борода и длинные свисающие усы его совершенно побелели. Он до того исхудал, что изодранная чоха теперь и без помощи веревок совершенно свободно сходилась на его животе. В глазах стоял неописуемый страх. Он не отпускал руку Герцеля, а если тому все-таки приходилось выйти из комнаты, начинал дико озираться по сторонам. Он боялся – вдруг его снова схватят, уведут и водворят в тюрьму! И только тогда, когда он увидел нашу маму, он дал волю накопившимся чувствам – страху, радости, надежде – и безудержно разрыдался. В этом старом, жалком человеке было очень много детского. Впервые тогда мне довелось увидеть, как человек выражает свою радость рыдая. Он и раньше картавил и немного заикался. Теперь он стал заикаться еще сильнее и все повторял: "Гельцелука, Гельцелука!" Так он называл Герцеля.
В тот день, впервые в своей жизни, Инди-Бой попал в знаменитые тбилисские серные бани, куда его по просьбе Герцеля взял один из наших соседей. Среди знакомых евреев раздобыли подходящие для его фигуры старое пальто и пиджак. И когда Инди-Боя впервые одели в европейскую одежду, никто уже не пытался сдерживать смех, глядя на старого водоноса, который, состарившись в чохе, вдруг стал "модником".
Вымытого, накормленного и переодетого Инди-Боя отправили домой вместе с двумя евреями, которые в тот день возвращались в Они. Инди-Бой попрощался со всеми нами; Герцеля с трудом вырвали из его объятий; наконец его усадили в фаэтон рядом с хорошо знакомыми ему онийскими евреями. Герцель, стоя у ворот, махал ему вслед. Вдруг Инди-Бой "выбросился" из фаэтона. Фаэтон уже набирал скорость; Инди-Бой не удержался, потерял равновесие и упал на асфальт; поднялся общий крик, но невредимый Инди-Бой вскочил на ноги, бросился к Герцелю и опять повис у него на шее! Не обращая внимания на вызванное им волнение, он повторял: "Герцелука, Герцелука". Казалось, будто самое важное в его жизни оставалось здесь, и он не спешил туда, куда увозили его лошади.
Почему же теперь, в Москве, из глубины памяти вдруг вынырнули давно позабытые лица, и среди них смешной Инди-Бой и странный Кокия? Почему люди из ближайшего окружения Герцеля, даже когда-то самые преданные ему друзья, не вспоминаются, блекнут, уходят все дальше и дальше?
Эти люди, талантливые и образованные, знают жизнь, знают, что по мановению руки обожествленного смертного гибнут таланты; знают, что каждый стоит на краю пропасти. Знают, но осознать этого не могут, и в безумном страхе прячутся от реальности и стараются не знать настоящей правды.
А вот Кокия или Инди-Бой не понимают нашей реальности и не боятся ее, потому что им нечего терять. Они теперь очень далеки от меня. Но я знаю, – будь они здесь и скажи я им страшную правду о Герцеле, они бы не испугались и не убежали. Они бы разорвали на себе одежду, посыпали пеплом голову, сели бы на землю и горько зарыдали.
По расписанию, мама должна была приехать в Красноярск 19 июня – через пять дней после отъезда из Москвы. С самого утра 20 июня мы с Меером стали ждать телеграммы. Но телеграмма не пришла. Всю ночь с двадцатого на двадцать первое мы с Меером волновались и не спали. Вестей от мамы не было.
Пожилая, уже полуослепшая, больная мама даже из синагоги или из оперного театра никогда не возвращалась одна: с ней шел Герцель или кто-нибудь из нас, а теперь она – жена и мать репрессированных, абсолютно незащищенная, совершенно одинокая, едет в добровольную ссылку.
Была суббота, 21 июня. Около девяти часов вечера в комнате раздался оглушительный звонок. Мы кинулись к двери – ведь мы ждали телеграммы! Но, нет. Это звонил телефон, по-видимому, междугородний. Наверное, Тбилиси: домашние спрашивают, какие вести от мамы…
Но, Боже! Какое чудо! Я слышу голос отца. Из далекого Красноярска с нами говорил отец! Вырывая друг у друга телефонную трубку, мы с Меером от волнения с трудом воспринимаем слова отца; мама прибыла благополучно, прибыл также и багаж целиком и полностью.
– Но зачем, зачем, – в который раз переспрашивает меня отец, – ты все это делала? Почему надумала присылать продукты в таком количестве? Ведь тебе было бы легче время от времени, понемногу…
Странно! Нас теперь совершенно не волнует судьба багажа, который я с такими неимоверными усилиями заготовила и отправила. Мы хотим только понять: каким образом отец попал из далекой Большой Мурты в краевой город Красноярск?!
Одному Богу известно, чем он заворожил красноярских чекистов, которые разрешили ему приехать в центр, чтобы встретить маму и позвонить нам. В Грузии в те времена ни один чекист не решился бы на то, на что отважились в сибирской глуши.