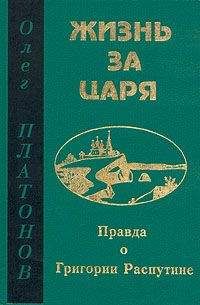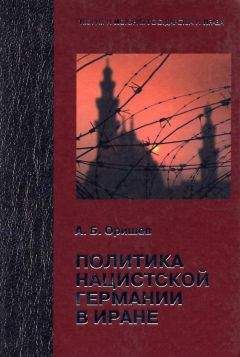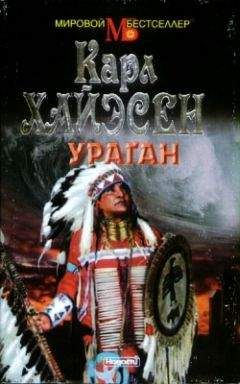Теодор Парницкий - Аэций, последний римлянин
Погребя бренные останки дочери Карпилия в чудесном склепе, где уже давно покоились вечным сном Флавий Гауденций и его жена, Аэций вернулся в Галлию, которую покинул после победы на Колубрарской горе. Тут он чувствовал себя лучше, тут его больше почитали и уважали; а он решил, что сейчас лучше всего — находиться среди преданных ему людей, поскольку пренебрегаемый им ранее Бонифаций начинал казаться ему все более опасным. Гиппон мужественно оборонялся вот уже год, приковывая Гензериха и его быстро тающие силы к одному месту. А тем временем из Восточных областей уже плыло в Африку огромное войско под началом еще одного друга Плацидии — Аспара. Консул Басс недвусмысленно предостерегал Аэция против козней Августы, которая не скрывала, что после уничтожения Гензериха соединенные силы Бонифация и Аспара наверняка пригодятся для восстановления покачнувшегося престижа императорского трона во внутренних провинциях империи.
Аэций давно уже не испытывал такого волнения, которое охватило его при известии, что Гензерих, понеся огромные потери, снял осаду Гиппона. Спустя неделю Аспар соединился с Бонифацием и Сигизвультом, чтобы всей громадой преследовать отступающих вандалов.
Была ночь, когда в палатку главнокомандующего Меробауд ввел запыхавшегося гонца. В палатке было темно, но Аэций не спал: он не велел зажигать света, чтобы никто не видел лихорадочного волнения на его лице. Он не поднял глаз на посланца. Но голос его был абсолютно спокоен, когда он спросил:
— Какие новости из Африки?
— Сиятельный! Презренный и безбожный король Гензерих…
— Говори смело. Не бойся.
— …почти наголову разбил соединенные императорские поиска. Славные военачальники едва спаслись бегством…
Аэций приказал внести свет.
Спустя месяц пришло известие, что Гензерих вошел в Гиппон и начисто его разорил. Аэций презрительно пожал плечами. Бонифаций теперь ничего не значил. Абсолютно успокоенный, Аэций последовал с войском к северным рубежам Галлии, где франки снова угрожали Бельгике. Покидая Арелат, он послал в Равенну письмо, полное тонко скрытых угроз, в котором решительно домогался патрициата и одновременно консульства на наступающий седьмой год счастливого царствования великого Валентиниана Августа, на 1184 год от основания Великого города, или на 432 год от рождества Христова.
3По трем руслам плывет неудержимо с раннего утра тысячеголовый людской поток: от Виминала и Альта Семита через старые Салютарские ворота на Марсово поле; от Целемонтия и Капуанских ворот между Большим цирком и Палатином до самого Коровьего рынка; и, наконец, из Затибрья по четырем мостам мимо театров Бальба, Помпея, Марцелла, под портиками Филиппа и Октавии. Чем ближе к Велабру, к Капитолию или стрелой устремляющейся на тот берег, к Ватикану, великолепной и нарядной улице, тем сильнее давка, тем многочисленнее драки за место, тем чаще обмороки и громкие, радостные крики. В этот день выдали двойную порцию хлеба, обильно сдобренного оливками и вином, — так что толпа с готовностью, несмотря на январскую погоду, платила великой Плацидии тем, чего она хотела: возгласами, приветствиями, рукоплесканиями… Все надрываются и надсаживают горло, но все уста и все глаза спрашивают только об одном: «Что же это за торжественный день сегодня!.. Что за празднество?.. И какой же это император ведет свою победную процессию путем Сципионов и Цезарей по триумфальной дороге?..» И все получали один ответ: «Поистине, это торжественный день… Дорогой триумфаторов едет некто воистину превзошедший избранников слепой Фортуны: едет несокрушимый, преданнейший и ревностнейший слуга веры Христовой и великого императора. Слава ему!» С безмолвным удивлением в глазах выслушивали люди этот ответ и на лету подхватывали возглас, и от садов Агриппины до Тригеминских ворот звучало только одно, долго не смолкающее слово:
— Слава, слава, слава!
На форуме Траяна, где собрались почти все находящиеся в то время в Риме сенаторы, у подножия статуи Констанция возвышался весь обитый пурпуром императорский подиум с двумя тронами: на более высоком, более торжественном сидел тринадцатилетний император Валентиниан Третий, на более скромном — Августа Плацидия, с трудом старающаяся сохранить маску бесстрастного высокомерия, приличествующего величеству. Ибо все ее лицо — глаза, рот, даже щеки — оживляет, озаряет и молодит улыбка невыразимого счастья. Наконец-то убедятся упрямые, вздорные головы истинных римлян, которым все еще видится salus rei publicae[49], что все идет так, как должно быть: что Рим будет награждать не тех, кому удалось сделать для него то или это, а осчастливленных милостью императорского величества избранников, тем больше достойных славы, чем большей дружбой и доверием одаривает их великий император, а не какой-то там princeps liberorum[50].
Перед самым подиумом стоят высшие сановники — императорский совет: их пятеро, недостает только одного, главнокомандующего. Ах, как жаль, что как раз его-то и нет… Но через минуту Плацидия строго сдерживает буйную радость: неужели ей и в самом деле жаль, что его тут нет?!
С форумов Веспасиана и Августа доносятся радостные, победные звуки трубы: процессия друга Плацидии уже свернула к Велабру, на улицу Тускус; голова ее уже минует храм Великой Матери и через минуту остановится перед старейшей христианской церковью на Палатине (некогда храмом Божественного Августа), дабы возблагодарить Христа за милость императорской дружбы, которая пролита на недостойное чело нынешнего триумфатора…
Префект претория Вирий Никомах Флавиан, с трудом сдерживая ироничную улыбку, незаметно склоняется к уху квестора святого дворца.
— Одно-единственное справедливое слово, которое прозвучало сегодня, — это именно недостойное чело, — шепчет он.
Квестор улыбается, но весьма сдержанно: он всегда умеет должным образом оценить шутку, но пусть не думает сиятельный префект, что квестор разделяет его чувства. Все знают, что возвышение друга Августы Плацидии — это настоящий удар по сенаторским родам, которые еще почитают староримских богов, и в первую очередь удар по Никомахам Флавианам, находящимся в тесной дружбе с главнокомандующим. Квестор с большой охотой позлорадствовал бы над щекотливым положением, в котором очутились могущественные Вирии (он презирает их веру и завидует их прославленному имени): взять, например, да и спросить с заботой в голосе, а что, сиятельный коллега не испытывает никаких опасений относительно дальнейшей посмертной судьбы своего отца и его памятника в сенате?.. История с этим посмертным почитанием и статуей натворила полгода назад много шума в Риме: отец нынешнего префекта при императоре Феодосии был также префектом претория Италии, главой староримской партии, принимал деятельное участие в последней вооруженной борьбе против христианства и пал под Аквилеей, победоносный же Феодосий приказал убрать из сената его изваянье и лишить посмертного почитания. Только Аэций, который после покушения на Феликса искал сближения с сенатом, добился от Плацидии снятия позора с Флавиана и согласия на восстановление его памятника в курии, чем завоевал расположение всех могущественных языческих сенаторских родов, которые благодаря численности и своему весу в Риме и всей Италии все еще держали верх над христианскими родами. Теперь квестор был уверен, что друг Плацидии пожелает все, что касается посмертной славы Флавиана, вернуть в первоначальное состояние. Но после краткого раздумья признал, что разговора об этом начинать, пожалуй, не следует, а чтобы что-то сказать, произнес:
— Воистину, со времени бегства Варрона из-под Канн Рим не помнит ничего подобного…
Тем временем новоявленный Варрон, так же как и настоящий шесть веков назад, пристыженный и придавленный, уже въезжал на форум Траяна. Как только он показался под аркой, все сенаторы, как один, подняв правую ладонь, воскликнули: «Ave, vir illustor!»
И все как один впились тысячеглазым взглядом в благородную статную фигуру… в красивое, с тонкими чертами лицо… в устремленные в землю красиво опущенные глаза…
А он, чувствуя на себе этот палящий жар любопытства, удивления и наверняка скрытой издевки, предпочел бы провалиться сквозь землю: ведь кто он, собственно, друг Плацидии, встречаемый как триумфатор императорами, сенатом, римским народом?.. Бунтовщик, которому не повезло и которого милостиво простили!.. Изменник, изменил императору и святой вере, призвав на помощь еретиков и хищных варваров!.. Плохой полководец, трижды разбитый хромоногим ублюдком!.. Беглец, который, потеряв надежду, малодушно бросил вверенный его попечению край, отдал его на разграбление яростным грабителям и кинулся через море, чтобы молить о прощении, готовый принять все: казнь, епитимью или презрительную милость, только бы обрести наконец после стольких лет бурь и треволнений желанный покой!