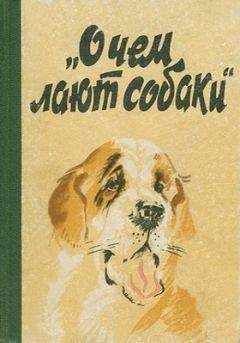Яцек Денель - Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя
Странно, только сейчас дошли до меня слухи, что Росарио Вейсс – она же последняя надежда моего отца, бредившего о том, чтоб усилием своих чресел подарить миру великого художника, она же бесталанная пичужка, которая поначалу ковырялась с какими-то миниатюрками, потом с обоями, а потом с копиями старых мастеров, – в конечном счете чего-то там добилась. И так миленько скопировала какой-то холстец, что очень-очень нехороший перекупщик продал его как оригинал. Разгорелся сыр-бор, и дело закончилось тем, что герцогиня де Сан-Фернандо из Академии искусств запретила ей копировать Веласкесов – «уж слишком похожи».
Все эти вести приносила мне конечно же Гумерсинда; и как это у нее только получается узнавать каждую сплетню в Мадриде раньше других; всякий раз приходила она ко мне вся пунцовая, со словами: «Ты себе не представляешь, что я слышала о той девахе, которая хотела отобрать у нас наследство!» А я только кивал, ведь не буду же я с ней спорить, что, мол, не деваха у нас, только мы у нее, а точнее, у ее матери, и не хотели отобрать, а отобрали наследство, нагло сочиняя небылицы над распухшим телом отца в агонии.
Как бы там ни было, в конечном счете Росарио пошло на пользу живописание – ее взяли на место учительницы рисунка для одной некрасивой толстушки, которая (так уж вышло) оказалась инфантой Испании. Но спустя полгода она ни с того ни с сего прямо из дворца вошла в гущу уличных беспорядков и настолько приняла все близко к сердцу, что сильно простудилась и умерла. С того времени Гумерсинда не говорила о ней иначе как о «нищасной девахе», да и говорила-то считанные разы, ведь о трупах редко ходят слухи, достойные передачи.
Но если после всех этих миниатюрок, обоев, копий, после всего этого кропания кто-то все еще сомневался: а может, жил и творил меж нас большой талант, только вот судьба оказалась к нему неблагосклонна? – то вот тут сомневающемуся пришлось бы спасовать. Если от вида вопящей толпы кто-то так сильно простужается, что помирает в лихорадке, пусть занимается обоями, обучением инфант и разрисовыванием вееров. Настоящий художник, дабы прийти в чувства, не нуждается в нюхательной соли. Я так считаю.
И вот тогда-то мне вспомнилась ее мамаша: засупоненная корсетом, крепко сбитая, слишком часто и громко смеющаяся, тянущая отца то в цирк, то на развлечения; вспомнилось, как она смотрела на бой быков и петухов, с каким аппетитом наворачивала горы брашна – и я подумал: разве эту маленькую девчушку, эту Букашечку не поедали, как и меня, ежедневно? Разве не поглощали ее, не расшарпывали? Неужто кровать в Бордо была обиталищем двух хищников, мясоедов, пожирателей детей, вот уж действительно два сапога – пара, снюхались своим звериным нюхом и признались друг другу: «Знаю, знаю твою страшную тайну»?
Говорит МарианоОтец живет себе припеваючи, продает дедовские холсты – причем знаю, он неплохо соображает, что можно продать, а что стоит еще попридержать и в мастерской, и на стенах мадридского дома, и в Доме Глухого; в голове у него полный каталог графики, рисунков, холстов, он в секунду может оценить картину, назвать год и место ее написания, а порой и присовокупить какую-нибудь презабавную историю, например, о цыпленке, какого кухарка выхватила из расставленных для натюрморта предметов и бросила в горшок, или о нетерпеливой натурщице.
У меня на сей счет свои подозрения, я, к примеру, знаю, что он все еще посылает сына своей прислуги в лавку Эскерры, где в свое время и дед покупал кисти, краски и клей, и что Эскерра поставляет ему пачки с заказанным товаром, которые потом исчезают за дверями мастерской, будто их никогда и не было.
Месяца два назад я выбрался в Мансанерес, чтобы показать Мануэлю (он с нами играет в трио) старое фортепиано, что стоит в Доме Глухого; я не был там года три, если не четыре, и хоть домом занимается придурковатый сын Фелипе, время делает свое дело – с крыши слетает черепица, штукатурка в больших потеках и смахивает на карту Бог знает какого мира, краска на дверях и окнах облезает, а ползущий по фасаду плющ постепенно, но неумолимо разрушает стены. Старая часть, куда я заглянул только на минутку, вообще может завалиться – столько там трещин в стенах и трухлявых балок; только парадная лестница все еще выглядит монументально, но дом, в котором никто не живет, изнутри становится ненадежным, незаметно разваливается; мебель осточертела, обои стали немодными, фортепиано расстроилось, и надо решить, вызвать ли настройщика туда или перевезти инструмент в город и уже у нас привести в порядок – Консепсьон в последнее время только и мечтает, что о концертах для двух фортепиано, а поскольку чувствует себя неважно, хотелось бы доставить ей маленькое удовольствие. Одна лишь отцовская мазня по-прежнему осталась кошмарной. Бедный Мануэль, его отец был колесником, и он из кожи лезет, лишь бы выглядеть знатоком искусства и человеком образованным – так вот он абсолютно одинаково восхищался как висящими на лестнице шедеврами деда, так и пачкотней в зале для музицирования; а я ничем не выдал себя, зато позднее, уже дома, мы от души посмеялись с Консепсьон.
И только ночью, вертясь с боку на бок и прислушиваясь к ее неспокойному, тяжелому дыханию, я подумал кой о какой сделке, что могла бы принести мне действительно немалый барыш.
Говорит ХавьерУже сгущаются сумерки, и самое время признаться. Во всем. Да, и впрямь, мое имя, фамилию и адрес можно найти в английских путеводителях по Испании; и впрямь, есть там запись, будто я охотно показываю картины старого хрыча из «единственной в своем роде частной коллекции». Написано также и то, что можно, «особо не торгуясь», уговорить меня продать кое-что из этого; сие упоминание стоило мне двух маленьких рисуночков, которые либо все еще висят у того самонадеянного английского забулдыжного щелкопера, либо уже давным-давно за нешуточные золотые гвинеи перекочевали в коллекцию столь же самонадеянного и столь же забулдыжного лорда с подагрой.
Да и впрямь, я обожал этих гостей, этот тип гостей; порой они бывали настолько глупы, что, входя в мой кабинет, конечно, после того, как об их приходе доложила прислуга, они все еще держали в руке путеводитель, заложенный пальцем на странице 158, где намекалось, будто от наивного Хавьера Гойи можно за полцены приобрести шедевры. Да и впрямь, я продумал свой метод продажи до мельчайших подробностей, и он всякий раз оправдывал себя – были они до того похожи друг на друга, что план не мог не оправдаться. Неизменно в их обращении со мной сквозила смесь притворного уважения и снисходительности, какую канальи выказывают в отношении тех, кого через минуту собираются облапошить. Они уверяли меня, что приехали в Мадрид исключительно затем, чтобы взглянуть на полотна «великого Гойи» (мало кто из них говорил по-нашему, почти все они приходили с переводчиком, и мне приходилось в первый раз слушать о «великом Гойе» по-английски, а во второй – по-испански, то есть каждый комплимент, каждую похвалу дважды, становилось даже тошно), я же ломался, мол, это уже остатки коллекции, мол, почти все уже продано, самое ценное купили «большие господа, в том числе много англичан», если это как раз был англичанин. Ведь приезжали и французы, даже двое немцев прибыли. А они и упрашивали меня, и разжалобливали, ведь не за тем же приехали, чтоб уйти отсюда несолоно хлебавши, и тогда я, тяжело вздыхая для виду, препровождал их в мастерскую. Прислуге строго-настрого (вплоть до увольнения) запрещалось там убирать – я лелеял пыль, беспорядок, стаканы, набитые кистями с засохшей краской на растопыренном волосе, благодаря чему у гостей складывалось впечатление, будто входят они в преданный забвению храм искусства. И они озирались по сторонам, а во взгляде их уже не пробивалось хотя бы мало-мальское восхищение – стояла в них одна алчность; я видел, как зрачки их округляются, как превращаются в звонкую монету. А посему не было во мне угрызений совести ни капли.
Да и впрямь, это я написал большинство полотен старого хрыча, Франсиско Гойи-и-Люсьентес, которые теперь украшают резиденции лордов, возле которых причмокивают языками знатоки и ценители. Да и впрямь, это я делал наброски, это я проводил вечера в маленькой комнатушке, за шкафом, где на листах старой бумаги возникали черноволосые махи, ведьмы, смертники в тюрьмах, сумасшедшие. Это я, не создавая лишнего беспорядка, не брызгая краской по сторонам, не пыжась, не уснащая шляпы свечами, совершенно спокойно, размеренно, в присущем мне темпе изготовлял дорогостоящие сувениры для пройдох с путеводителем в руке, заложенном пальцем на странице 158. Я раскладывал перед ними запыленные папки, силился открыть ящичек («Лет пять не открывал!» – это был мой коронный актерский номер), а потом скулил, плакался, жаловался на бедность и называл цену, которая могла бы показаться несколько завышенной, но и так составляла лишь малую толику того одобрения и расположения, какого они удостоятся, уже повесив оправленный в раму рисунок или холст на почетном месте в гостиной зале и будут с гордостью говорить: «Сей скромный на первый взгляд рисуночек (или сие непрезентабельное на первый взгляд полотно) – настоящее приданое для моей дочери. Гойя. Настоящий Гойя, у нас еще малоизвестный, но на континенте – большая слава. Я купил его от незадачливого сына живописца за сущие гроши».