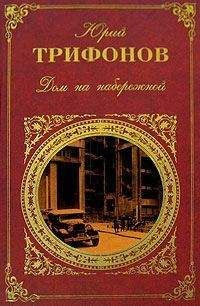Игорь Гергенрёдер - Донесённое от обиженных
Руководящий человек, из уважения к достоинствам Семёна Кирилловича, скромно уступал ему первенствующую роль — и с нею отдавал главную долю ответственности перед лицом весьма в то время неопределённого будущего.
Логический ум и кроткая душа Семёна Кирилловича покорились любви и вере, слегка дрожащая рука подняла факел, и за ним пошли потрясённые и пробуждающиеся…
Золото было перевезено в заводоуправление, в полуподвал, чьи окна оберегали решётки, кованные из первосортного железа. Народ раздобыл четыре армейских винтовки, нашлось в Баймаке и малое количество принадлежащих прошлому веку однозарядных берданок. Вооружённая дружина из четырнадцати человек начала учения под окнами совета рабочих депутатов: «Заложи патроны, приготовьсь!» У входа в полуподвал стояла на часах охрана, важничая от новизны своего назначения.
Лабинцов же, организовав обмен золота на рубли, озаботясь закупками муки, солонины и дров, стал наижеланным в Баймаке лицом, особенно любимым многодетными матерями. Гревшиеся вокруг него помощники не упускали случая обмануть его, но если кто попадался — Семён Кириллович бывал гневен и беспощаден. Жулика судил избранный жителями суд, краденое отбиралось, и виновного лишали всякого пособия. Уважение к Лабинцову, который «на пуды золота не позарился», крепчало, подпитываясь неосознанным удивлением и глубиной искренности. Встречая восхищённые и ласковые улыбки, он, не отличавшийся ростом, незаметно для себя приобрёл ту осанистость, которая, как говорили древние, сопутствует щедрости благородно мыслящего.
40
Однажды, возвращаясь в заводоуправление из поездки за партией сухого гороха, Семён Кириллович подумывал, не хлопнуть ли рюмку коньяку — по случаю удавшейся торговой операции, а более потому, что мороз доставал и сквозь енотовую шубу… Обметая в холле снег с обуви, он увидел расположившихся на дубовых диванах незнакомых вооружённых людей. Старик-швейцар прошептал в ухо:
— Из Оренбурга. За золотом приехали.
Лабинцов в тяжёлой сосредоточенности взошёл на второй этаж и в помещении руководителей совета застал, помимо них, нескольких приезжих. Один стоял у изразцовой печи, грея протянутые к ней руки, на боку у него висела, к ошеломлению Семёна Кирилловича, шпага в никелированных ножнах. Человек горделиво притронулся к эфесу:
— Как оно вам? С барона снята! Хватит ей ходить по обедам — пускай теперь здеся! — и прищёлкнул ногтем по рукояти.
Остальные присутствующие заседали за столом, и Лабинцов встретил взгляд, до неестественности внимательный и тягучий. Маленькие глаза смотревшего, казалось, не имели ресниц, что производило страшноватое впечатление. Инженер про себя назвал незнакомца «гологлазым». Тот небрежно окликнул мужчину со шпагой, обнаружив своё начальническое положение:
— Займи место!
Человек пошёл к столу, и Лабинцов увидел, что он украшен не только холодным оружием: на другом его боку висела бутылочная граната.
Местный большевик, уже знакомый читателю, сидевший с чернильным карандашом в руке, пригласил Семёна Кирилловича тоном обходительного официального лица:
— Присаживайтесь, товарищ Лабинцов. — Бывший пролетарий, теперь именовавшийся по должности председателем рабочего исполнительного комитета, объяснил: — Требуют золото в Оренбург… — далее он говорил, уже смотря на гологлазого и как бы пробуя пункт для полемики: — Требуется забрать от нас золотой запас, то есть ценность трудового Баймака.
Семён Кириллович понял, что предрика никак не сочувствует желанию губернской власти. Живо представились многолюдные революционные учреждения Оренбурга — как там, при вести о пудах золота в Баймаке, до судорог взыграл аппетит. Отделы и подотделы уже азартно готовятся к делёжке, подводя основания под запросы финотчислений, прокладывая желоба, побежав по которым, золотые ручейки будут споро превращаться в дополнительные пайки для советских служащих, в сахар, в сливочное масло, в не менее жирные, чем оно, оклады. Жизнелюбие новорождённой бюрократии лихо затмило претензии прежней, избалованной изобилием: примета, которую успели оценить весьма многие, в их числе и Семён Кириллович.
— Губернское руководство чем-то помогло Баймаку в его бедственном положении? — сдержанно-упрекающе обратился он к вожаку оренбуржцев. — Губерния может поручиться, что в ближайший срок завод заработает и рабочим будут выдавать жалование?
Предрика вставил с выражением косвенной поддержки:
— Так и запишем!
Оренбуржец с неприятными глазами сказал Лабинцову без раздражения:
— Эти знают, а вы ещё нет. Я — особоуполномоченный губкома и губернского военно-революционного комитета! — он указал взглядом на лежащий на столе документ.
Инженер понял, что должен с ним ознакомиться. Напечатанные на машинке строчки читались с невольно заострившимся вниманием. Предъявитель мандата был «облечён правом прибегать к любым революционным мерам, вплоть до расстрела виновных в срыве его задания особой важности».
В ту пору подобные документы и персоны с неограниченными правами были явлением, можно сказать, обязательным на просторах бывшей Российской империи, к этому привыкали, и всё же у Семёна Кирилловича на минуту опустились веки от болезненного гула крови в висках. Он укротил заплясавшие нервы.
— Мне доверились тысячи и тысячи рабочих семей, — усиливался говорить так же спокойно, как гологлазый, — и я обязан довести до них о цели вашего приезда. Немалая часть населения до весны вымрет — без того, что может дать золотой резерв. Люди, которых жизненно касается вопрос, должны и решать его.
— Запишем! — предрика сладковато глянул на приезжих и стал старательно работать карандашом. — Запишем о местной революционной инициативе… — добавил он со значением.
Вожак оренбуржцев спросил Семёна Кирилловича по-прежнему флегматически:
— А ваш долг коммуниста-большевика?
— Я — не член партии большевиков! — ответил Лабинцов зазвеневшим голосом.
Особоуполномоченный помедлил и перевёл тягостно-привязчивый взгляд на председателя:
— Кто у вас у власти? — бесстрастие теперь выглядело деланным, и за ним угадывалось тихое ледяное бешенство.
Предрика обладал лицом, выразительно-подвижным до невероятия: в течение пяти секунд оно могло быть прокурорски требовательным и ехидно-слащавым. Сейчас оно выражало конденсированное глубокомыслие.
— На текущий момент — не состоит, а в другой момент будет коммунист. Как и учит нас по диалектике Карл Маркс, — философски разъяснил он приезжему. — Мы с вами как с представителем губернии, — продолжил поучающе, — должны учитывать местный характер обстановки — раз! И революционную волю местного рабочего класса — два!
Депутаты баймакского совета подхватили с прорвавшимся возбуждением:
— Само собой так!
— Оно действительно!
— Именно что надо учитывать!
Один из активистов бросил оренбуржцам, обернув злорадство в шутейность:
— Во-о, знали бы наши бабы сейчас про ваше дело!.. Успели б вы смыться, нет? — он потускнел и закончил с тоскливой язвительностью: — Правда, можно огонь открыть — по бабам.
Особоуполномоченный переглянулся со своими людьми: с тем, что при шпаге, и с двумя другими. Пристальные, без ресниц, глазки вперились в инженера:
— А убедиться, как хранят золотой запас, губернская власть тоже не вправе, гражданин р-рабочий р-радетель? — проговорил он с внезапной резкостью, ядовито-яростно.
Семён Кириллович не мог и представить столь пронзительной, безграничной ненависти, сконцентрировавшейся на нём. Его оглушило чувство словно бы горячечного сновидения, когда в сумеречной неподвластности выделилась черта совершенно чёрная — воздействие, оказанное гологлазым и оправдавшее его расчёт. Натура Лабинцова не позволила ему ничего иного, как ответить:
— Да, убедиться вы можете…
Он не видел, каким взглядом сбоку угостил его предрика. Взгляд сперва выразил сожаление и снисходительность, а затем — презрение.
Семёна Кирилловича раньше не занимало, как он ходит, но сейчас, направившись к двери, он взволнованно следил за тем, чтобы ступать крепко и неторопливо. Длинный, просторный, с высоким лепным потолком коридор имел выход на лестницу, что вела вниз, к месту хранения золота. Лабинцов, слыша за собой шаги и дыхание оренбуржцев, чувствовал, будто нечто невообразимо тяжёлое, из металла, неумолимо нагоняет его, вот-вот подомнёт и расплющит. Самоосуждающе изгоняя из себя это мозжение, сосавшее каждый нерв, он услышал:
— Стойте! — Слово было произнесено за ним в такой близости, что затылок ощутил колебание воздуха.
Особоуполномоченный обошёл инженера и встал на его пути к лестнице. Идти дальше, приближаясь к караулу в полуподвале, он находил нежелательным. Человек застыл, сжав губы, и его безмолвие было для Семёна Кирилловича чем-то сжато-испепеляющим, отчего сердцебиение выпило все силы.