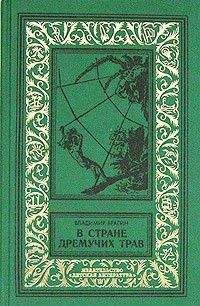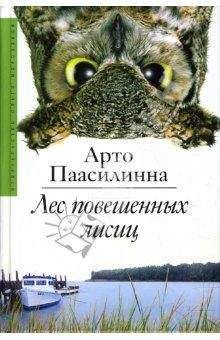Константин Тарасов - Погоня на Грюнвальд
Дней через десять Юрий окреп и ушел в Волковыск к отцу Фотию, и все эти дни прошли для Ольги в бодрости и покое. Брат открыл ей свою мечту об Еленке, они подолгу говорили о ней, и он старался втянуть Ольгу в гадания: откажет ему Еленка, если он посватается, или даст согласие? «Да что ж мучиться и через чужих людей узнавать,– учила его Ольга,– сам спроси; тебе можно, вы не чужие, вместе от смерти ушли, она тебе честно ответит. Скажет «нет» – и сватов посылать не надо, скажет «да» – без робости за сватами войдешь. А что скажет, никому не известно. Пока не спросишь – не откроется». «Как же спрашивать,– говорил Юрий,– только мать потеряли». «Да разве горит? Годами ждут люди,– говорила Ольга, думая о своем ожидании.– Не на месяц женитесь. Пройдут сороковины, привыкнет она к горю, подумает о себе, оглядится – тогда и спросишь, на ее трезвую душу». Но и сама однажды не выдержала, открылась, что решили с Мишей Росевичем пожениться. И чтобы брат все понял, пожалел ее, не подумал дурного, рассказала свою жизнь в замужестве за Данилой. «А я слеп был,– виновато сказал Юрий,– думал, ты счастлива!» И установилась между братом и сестрой давняя близость, словно утерянную опору отыскали, вернулась радость веры, что каждый из них друг для друга тот единственный человек, который все поймет и примет и, ничего себе от друга не желая, желает другу добра. При расставании Ольга сказала Юрию: «Через месяц приеду. Насовсем». Он загорелся: «Зачем ждать? Поедем сегодня! Вдвоем так весело, хорошо!» «Не уговаривай,– вздохнула Ольга.– Нельзя раньше».
После сороковин, на другой день, как Ольга и ожидала, приехал к ней Мишка. Вошел в дом – для нее сразу свет просветлел. В глаза друг другу посмотрели, обнялись – вот и блаженство, и вечной жизни не надо, только бы с таким чувством хоть год прожить.
Сели за стол. Ольга, подперев ладонями лицо, любовалась Мишкой, нравилось ей, как он глядит, как меняются его глаза, как улыбается ей, как горестно говорит о матери и жалеет отца, радуется за Еленку, хвалит за смелость Юрку, как с нежностью говорит о Кульчихе – приходила поглядеть на Еленку и отругала всех, что тоскуют, как сдохлые,– и о своем ожидании встречи и радостных, вопреки семейному горю, снах.
Опять засиделись до ночи, до огня. Где-то далеко стали выть волки, дворовые волкодавы неистово набрехались перед сном, сверчок завел свою вечернюю песню; потрескивая смолой, призывала к покою лучина... Ох, как не хотелось расставаться: ему – уходить в зимнее поле, ей – отпускать его в ночной мрак. Обнявшись, стояли у порога, шептались о новой встрече. Он вдруг отстранялся: «Ну, пойду!» Или она говорила: «Ну, иди, поздно!» И вновь льнули друг к другу... И мир, по жесткому закону которого им надо было сейчас разлучиться, удалялся от них, затуманивался, забывался, и горячечно подчиняла их себе истинная правда жизни – их любовь, биение их сердец, требующих счастья.
Мишка шагнул к печи, дунул на лучину, она не загасла, он вырвал ее из щипца и ткнул в воду. Стало темно. Стукнул, упав на пол, отстегнутый меч. Шелестя, опали одежды, и все былое, все лица и имена, заботы, сомнения, трезвость – все исчезло; они оказались в ярком своем мире, где страсть – залог верности, чистоты и веры.
Была ночь. И вдруг в ночной тишине им услышался далекий, нарастающий топот отряда.
– К нам? – спросила Ольга.
– Похоже,– сказал Мишка.
Они еще послушали и убедились, что скачут к ним.
Не зажигая огня, они оделись. Тогда Ольга запалила лучину. Мишка пристегнул меч и сел к столу. «Свекор» – подумала Ольга и сжалась, предчувствуя беду.
Разлаялись собаки. В ворота застучали дубиной. Скоро сонный паробок закричал: «Кто?»
– Свои! – крикнули ему.– Данилов отец!
Ольга пошла из избы. Паробок убирал на цепь псов. За воротами переговаривались люди. «Господи, что он хочет? – думала Ольга.– Зачем при Мишке?»
– Кого бог принес? – крикнула она.
– Свекра твоего,– ответил из-за ворот старик.– Ехал мимо с людьми. Пусти погреться.
– Отпирай,– махнула Ольга паробку.
Человек десять конных въехали во двор и сошли с седел. Ольга узнала Степку, Верещаков Петра и Егора; и Рудый, одетый в кожух, был среди них, хотя днем, в приезд Мишки, видела его во дворе. «Вот оно что,– поняла она,– Рудый позвал».
– Помнишь, Ольга, я тебя по-доброму просил,– сказал старик.– Ну, показывай гостя своего.
«Господи, будь что будет! – подумала Ольга.– Начнут биться, возьму топор, умру рядом с Мишкой».
– Заходите,– сказала она и пошла в дом.
Они входили в избу, здоровались и становились толпой у порога. Мишка отвечал: «Здорово, Петра! Здорово, Егор! Здорово, Рымша!» Ольга стала у печи, перед топкой, косясь на холодное острие секиры.
Все долго и неловко молчали. Наконец старик обратился к Мишке:
– Что, дома не спится?
– В гости заехал,– отвечал Мишка.– А что?
– А то! Нехорошо засиживаться во вдовьей хате. Все-таки невестка моя. Вдруг обида будет?
– Что же я, вор какой – вдову обижать?
– Вдруг мне обида будет?
– А какая тебе обида?
– Года не прошло,– ворчал старик,– а уж тут гости ночные.
– Не пойму тебя,– помрачнел Мишка.– Вот и вам всем по домам в мороз не сидится. Ищете кого? Или как?
– Может, и ищем,– наступал старик.– Все же скажи, чего тебе здесь торчать посередь ночи?
– Вы что, гнать меня взашей прибыли? – усмехнулся Мишка.– Наезд! И вы, Верещаки, не поленились? Что, обида у вас на меня? Вам-то чего морозиться?
Егор покривился.
– Вот,– кивнул на старика,– прискакал: пособите, невестка честь не хочет держать, молодцов принимает. Твое имя не говорил. Знали бы, что ты, не стронулись.
– Зачем, старый, Ольгу позоришь? – сказал, поднимаясь Мишка.– Не совестно?
– У честной вдовы гость рассвет не встречает. Тебе давно до дому пора. Езжай, хлопец, не держим, у нас с невесткой свой разговор будет.
– Ты, дядя Былич, вроде выпил,– сказал Мишка.– Стычки хочется? Про Ольгу запомни: ее брат нашу Еленку спас, так что она для нас теперь как родная. Обидеть не дадим.
– Вижу, что родная,– осклабился старик и прикрикнул на Ольгу: – Собирайся! К нам повезем. Поторопись! А то силой!
Мишка, неспешно ступая, придвинулся к старику:
– Силой? Ну, попытайся! – И, мгновение помедлив, объявил, как судьбу: – Она вдова, но через год женой моей будет. Как жену и защищаю. Пальцем кто тронет – убью!
– Так. Понятно,– передернулся старик.– Ясно, чего здесь сидел, как породнились. Подай ей овчину,– кивнул сыну.
Тот нехотя снял с торчка кожух и ступил к Ольге. Мишка махнул кулаком, и Степан прилип к стене. Из разбитой губы потекла кровь. Сверкнули вытянутые мечи.
– Ладно, наше дело сторона,– сказал вдруг Егор Верещака.– Сами разбирайтесь. Бывайте!
Братья вышли и увели своих паробков.
– Ну что, все выяснили – спросил Мишка.– Все знаете? Что еще?
Решимость старика с уходом Верещаков приметно ослабла.
– Уже хозяйствуешь,– укорил он,– в чужом доме. А он наш!– Вам и останется,– ответил Мишка.– У меня свой есть.– И всунул меч в ножны.
Былич вдруг обезволился, прошел к лавке и тяжело, как хворый, сел, облокотясь о стол.
– Да,– вздохнул он.– Эх, жизнь – минута! – И заплакал.
– Ты что, дядя Былич? – удивился и пожалел Мишка.
– А-а, все пустое,– махнул старик.– Был двор, был сын, жил Данила – все затерлось... Новая жизнь... нет правды.
Унылое молчание настало в избе. И о чем говорить: никто в смерти не винен, никто в желании жить не волен и в угоду чужой боли себя в жертву не принесет – нет одной правды, а разные правды не дружат.
Старик посидел до смирения души и безучастно, ничего не сказав, не прощаясь, пошел на двор. Люди его вышли следом. Послышалось ржанье, суета посадки и топот уходящих коней.
Утром Мишка отвез Ольгу в Волковыск к брату.
ВОЛКОВЫСК. ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ
Истекали томительные для Софьи дни ожидания пасхи, приезда сватов, встречи с Андреем. Уже близилась вербница, уже могли в любой час прибыть желанные гости. Днем раз за разом выбегала на дорогу, вглядывалась в чистую даль, вслушивалась в тишину – не звенят ли радостно колокольцы, не везут ли к ней любимого лихие тройки? Сны ночные, покружив у изголовья, улетали; прижимая к сердцу подаренный складень, просила святых оберечь Андрея Ильинича от несчастий. В ночной темноте избы, затаивая дыхание, мечтала, что на пасху, когда в замковой церкви отец Фотий возгласит: «Друг друга обымем, рцем, братие!» и все начнут целоваться, она тоже поцелуется с Андреем и потом подарит ему крашеное красное яичко... Сердце замирало от близости великого счастья.
По вечерам, сидя с сестрой за куделью, вздрагивала при каждом стуке дверей, а стоило разлаяться дворовым псам – пряжа выпадала из рук, ноги отказывались держать; обомлевши, просила отца: «Таточка, едут, встречай!» Боярин Иван, проигрывая сыну в шахматы, сердился: «Ты, что, дура молодая, тоскуешь! Схудела – противно глядеть. Скажут: страхолюдину сбываем с рук». Мишка, вгоняя в стыд, смеялся: «Силу, сестра, береги! На медовый месяц много надо здоровья!» «Уж ты помолчал бы! – шикал на него отец.– Сам что натворил? Стыд потеряли! Была б мать жива, как в глаза поглядел?»