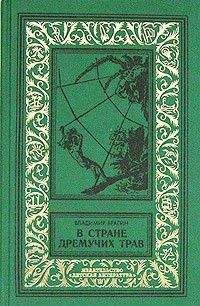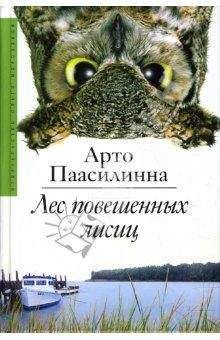Константин Тарасов - Погоня на Грюнвальд
– Да, хитрят,– закивал Валленрод.– Хотят отсидеться за нашей спиной. Они и летом от войны отвертятся. Сидят в своих замках, как курица на яйце. Никакой пользы.
– Можно и ливонцев понять,– урезонил их магистр.– Возьмем прочно Жмудь – переменятся. А сейчас что? Они на отшибе. Бросит на них Витовт полки – ничего не останется. Нам же и вред. Им Витовта искать, рубить, что в капкан головой. О них после подумаем...
Вдруг Куно фон Лихтенштейн расхохотался, словно поймал наконец спасительный вариант решения.
– Будет неплохо, если Витовт поедет к Сигизмунду один,– предположил комтур, хитро поглаживая бороду.– Вспомним, братья, Салинский мир, когда боярская сволочь закричала: «Славу Витовту – королю Литвы и Руси!» Радость доставили язычнику эти пьяные крики. Пусть Сигизмунд предложит ему королевскую корону. При одном, разумеется, условии – разорвать союз с Ягайлой и никогда не произносить «дедич Жмуди». Жмудь – орденская земля...
– Что ж он, дурак, чтобы попасться в эту ловушку? – усомнился казначей.
Валленрод мученически кривился.
– Братья, о чем мы думаем? – призвал он.– Какую корону? Кому? Пусть дьявол коронует Витовта. На том свете. Не вижу лучшего средства, чем сжечь Кежмарк вместе с Витовтом и Сигизмундом. Никаких затрат, только на солому.
Великий магистр ударил рукой по столу:
– А что, брат Фридрих, в главном ты прав! Мне это нравится! Меч, нож, стрелы, яд – они позаботятся все это отразить. Но Витовту в голову не придет, что его могут испечь на костре, как теленка. Но, само собой, не должен пострадать король Сигизмунд. Старый друг лучше новых двух. Поэтому сделаем так: силами двух полков наскочим на Витовта по дороге из Вильно в Брест. Согласен ли ты, брат Фридрих, вести эти полки?
– С удовольствием! – откликнулся великий маршал.– Это угодно нашей заступнице деве Марии.
– Если Витовт уйдет,—развивал план магистр,– встретимся в Кежмарке. Пусть Сигизмунд предложит короноваться. Согласится – пощадим. Если откажется или, по своему языческому обыкновению, начнет хитрить, подожжем город и в начавшейся панике князя и послов посечем. Для этого потребуется нанять местный сброд.
– Брат Ульрик, неужели ты считаешь возможным,– удивился Валленрод,– посвятить Сигизмунда в это дело?
– Почему бы нет? Конечно, в самых общих словах.
– Захочет ли он губить город?
– За деньги он мать родную сожжет, а уж никчемный Кежмарк сам обложит дровами,– сказал магистр, но сразу же раздумал: – Впрочем, лучше не пугать его. Еще сдуру помчится тушить. Что ты думаешь, брат Томаш?
– Можно попытаться. Если бог выкажет милость – исполним.
Поглядывая на братьев, великий магистр теплел сердцем. Завтра колесо покушения покатится: будут отправлены на Русь купцы, старцы, скоморохи, пойдут секретные письма на немецкие дворы в Вильно и Брест, поскачут гонцы в Венгрию, брат Куно отправит толкового, делового человека в Кежмарк,– колесо покатится и сомнет одного из врагов. Его не станет. Вздохнет наконец спокойно земля, и облегченно вздохнет орден. Останутся сами по себе, без литовской помощи, поляки и будут наказаны. Взвоют вероломные литвины.
Впрочем, остановил себя магистр, что ордену Витовт, что Ягайла? Врозь они или вместе – разница невелика. Пусть держатся парой – тем больше крови попьют орденские мечи.
Ульрик фон Юнгинген встал и сложил на груди руки для молитвы. Братья последовали примеру своего магистра.
ДВОР БЫЛИЧИ. НАЕЗД
В середине того дня, когда отправились к чудотворной сестра с матерью, Мишка Росевич поехал наведать Ольгу. Пересекая шлях, по которому ушел в Гродно обоз, видя санную колею, взрыхленный множеством копыт снег, мысленно видя этот веселый поезд в поле, в стремительном, звонком движении, Мишка испытал горячий удар крови в сердце, искренне и трепетно разволновался, проникаясь чувством, что и сам, подобно сестре, едет сделать одно из важных дел жизни, сказать и услышать слова, означающие перемену судьбы.
Впервые после болезни сев верхом, Мишка на второй версте дороги утомился, рана растряслась, и он невольно припомнил слова Кульчихи, что раньше пасхи ему не ездить. Мишка слез с коня и пошел пеше, утешая себя мыслью, что и Кульчиха всегда пешком ходит, и горемычный лирник тоже обходится без коня. Это его в чем-то смирило; он даже развеселился, что идет в гости к любимой, на важную для себя встречу, как старец или нищий чернец. И когда он, насквозь промерзнув, достиг двора, стукнул в ворота и грубый голос спросил: «Кого несет?», он шутливо, но с понятной себе правдой ответил: «Странник божий». Над воротами высунулась лохматая голова Рудого, и сразу же застучали снимаемые запоры.
Встреченный Ольгой, Росевич вошел за ней в избу, сбросил кожух, хотел сесть на лавку и вдруг, следуя указке сердца, шагнул к Ольге и нежно, бережно обнял. Он почувствовал, как напряженное ее тело расслабляется в кольце его рук, как она льнет к нему, роднится с ним, услышал, что она плачет, и прижал крепко, как несчастного ребенка, который жаждет довериться и получить защиту. Они стояли в этом безмолвном объятии, поводя пальцами, как слепцы, по лицам друг друга, в той особенной радости жизни, какую испытывают лишь люди, нашедшие друг друга после разлуки и бедствий долгой войны. Он заглянул ей в глаза:
– Поженимся, Ольга!
Она кивнула и прижалась к нему со слезами жалобы и любви.
Потом Ольга сказала:
– Надо дождать год. Два месяца только, как Данила умер...
– Дождем,– успокоил Мишка.– Что год, если жизнь жить вместе.
Он сел, она суетилась – радостная, красивая, смущенная. Мишка зачарованно за ней наблюдал.
– Иди сюда,– позвал он.
Когда она села рядом, плотно прижимаясь к нему плечом, горячечно вздрагивая от этой близости, он стал говорить, как думал о ней, уходя от смерти в хате шептуньи, как она ему снилась, как впервые увидал ее на замчище в Волковыске давным-давно, потом увидел невестой – тогда сердце начало точиться тоской, он понял, что любит ее, и завидовал Даниле...
Ольга тоже открылась, что никогда не была счастлива, годы прошли в горечи и нудной тоске и в день свадьбы, увидев его здесь, на пороге, в один миг поняла, что погибла, и жила только, чтобы хоть изредка увидеть его, думала о нем, видела его, как наяву, рядом с собой, вот как сейчас, грезила идти рядом с ним по дорогам, куда-нибудь далеко, долго; она так хочет жалости, так настрадалась, потому что мало кто знает, как это мучительно, какая это пытка для души – ждать, ужасаясь, что вот завтра, сегодня, скоро явится нелюбимый человек и будет здесь ходить, злобно поглядывать, окрикивать; она не из терпеливых, не из смирных, но что-то удерживало, надежда удерживала, что увидит его, что случится ее счастье, не кончена жизнь, не вся покрыта мраком. Пусть он не думает, что она злая, ведь он и не знает всего, что здесь испытано за этот плен; когда она встретила их, раненых, на дороге, хотелось к нему сесть на подводу, руками бы рану гоила, сердце кровью облилось, когда увидела его, истаявшего в тень. Данилу было жалко, а думала о нем, о Мише, мыслями рядом была, может, Данила и помер, что она в душе за его жизнь не молилась. Мишка отвечал: позади беды, прошли, забудется прошлое, теперь им будет счастье, она настрадалась, он натосковался, будут любить и радоваться друг другу, он – ей, она – ему. Жаль, что ждать год, но нетрудно и дождать, чтобы ей было ясно на душе, а осенью он вернется из похода и заберет ее, они навек сойдутся вместе. Ольга плакала: «Зачем же поход, Миша? Не хочу я тебе походов». А он говорил: «Ничего. Этот не самый страшный. Были похуже, когда совесть свою губили, а здесь против немцев».
И опять каждый вспоминал дорогие, самые важные мгновения из прошлого, в которых Открывалась им теперь их судьба, их давняя любовь, их созданность друг для друга в этой жизни. Ольга рассказывала: «Вот иду лугом, знаю, ты в походе, едешь на коне по чужим землям, вижу, слезки растут, нарву пучок и сама заплачу, думаю, и он видит такие слезки, пусть подумает обо мне, и словно вижу тебя сквозь даль, и грустно мне, и радостно думать о тебе. Лягу на траву, уткну глаза в пучок слезок, и мои слезы текут, и счастливо мне от них...» И он рассказывал: «Ночью лежу у костра, кони пасутся, товарищи спят, а я не сплю, гляжу в небо на звезды, а их как зерен – и малые, и крупные, и яркие, думаю, где Ольгина, где моя звезды, думаю, вот эта – моя, а та – твоя, и печалюсь, что не рядом, а тогда выберу две звездочки рядом и радуюсь – вот наши. Вдруг зничка пролетит, я загадываю: моя Ольга. А когда домой возвращался, всегда хотелось налево поворотить с перекреста – к тебе, а не направо – домой...»
Так, прирастя друг к другу, не шевелясь, не притронувшись к еде, говорили беспрерывно, пока не начало смеркаться. Все важно было высказать в чистоте первого объяснения; надо было узнать все слова, что могли быть сказаны раньше, сложись по-иному жизнь, те слова, что думались друг про друга, накапливались в многолетнем вынужденном разлучении в снах, молитвах, грезах, тайных мечтах. Когда совсем смерклось, Мишка собрался с духом и встал: