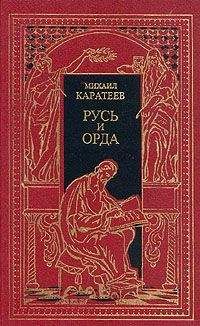Николай Дубов - Колесо Фортуны
Заторопилась тогда, вытребовала в Петербург сиротуплемянника, расчувствовалась. Думала, будет, как с тем племянником, незабвенным Петрушей… Бедный мальчик!
Он ведь был влюблен в нее, четырнадцатилетний император, на все был готов, а она, дылда здоровая, с ним кокетничала… Были даже прожекты поженить их, чтобы престолонаследование было законней законного. Грех? Ну, грех попы отмолили бы. В крайности тому дароносицу подороже, тому панагию в бриллиантах пожертвовать — благословили бы… Да, видно, не судьба — помер Петруша. И вовсе судьба ей не задалась. Кого только в женихи ей не прочили? И французского короля, и Мориса Саксонского, и всякую немецкую шушеру. Чтобы, как сестрицу Анюту, из России вытолкать, подальше от престола. Ан выкусили! Она сама батюшкин престол восприяла. Только после всяких королей, князей да маркизов в потаенные супруги выбрала малороссийского пастуха… Красавец какой был, голос — прямо ангельский, и малый добрый.
Да ведь за это на престол не втащишь, Европе на смех..
А что — Европа? Шут с ней, с Европой…
Елисавет Петровна мучительно старалась вспомнить, додумать какую-то важную, самую важную мысль, чтобы успеть сказать, сделать, пока не поздно, но мысли ее ускользали, путались, и она никак не могла ухватить и удержать главную.
Что-то про Европу?.. Нет, на Европу наплевать. Держава… Да, вот — держава Российская! Каково-то с ней будет? На кого останется? На немецкого выкормыша?
Великая, необъятная, а…
Елисавет Петровна посмотрела на окна, за которыми простиралась эта самая держава, но отсюда ее не было видно — порывистый ветер хлестал по окнам снежной крупой. И мысли Елисавет Петровны снова утратили возвышенный характер. Она подумала, что к утру может сделаться гололед, опять будут калечиться некованые лошади. И люди тоже. Бывает, и до смерти убиваются. О таких происшествиях ей непременно докладывали. Ей было жалко пострадавших, но какой-то короткой и небольшой жалостью. Она приказывала отслужить панихиду и, себе в том не признаваясь, радовалась, что случилось это с людьми, которые ей вовсе не известны. А то бы она жалела и огорчалась куда больше…
И тут же она почему-то начала перебирать в памяти людей, которых знала, встречала, запомнила. Вереницы, толпы придворных, лакеев, попов, егерей, тесня друг друга, поплыли перед глазами, от их мельтешения голова пошла кругом, снова стало мутить. Грузное тело императрицы передернуло судорогой, она приоткрыла глаза. Вокруг все те же ненужные лица. Не лица — рыла… Наблюдают, сторожат, ждут смерти… Где же ее други верные, лейб-кампанцы? Она в них души не чаяла, они — в своей императрице… С гвардейцами ей всегда было хорошо.
С детства, от самых малых годов. Мамки, няньки, как водится, были, а выросла, почитай, на руках у гвардейцев. На всю жизнь полюбила казарму, запах сильных мужских тел, биваки, жизнь в палатках… Ей бы мужчиной родиться. И так-то мужикам не уступала: заганивая лошадей, за двое суток могла доскакать от Москвы до Санкт-Петербурга, на пирушках с мужиками пила вровень, а уж в забористой солдатской словесности такое могла завернуть — придворных болтунов столбняк хватал… И первая любовь ее, незабвенный Алеша Шубин, тоже был бравый прапорщик Семеновского полка, загубленный этой дикой, злой дурой императрицей Анной…
Господи! Как давно и как недавно это было. Почему?..
Почему так быстро пролетело все?
Невнятный хрип императрицы не поняли. Великая княгиня Екатерина Алексеевна склонилась над умирающей:
— Чего желает ваше величество?
Елисавет Петровна ненавидящим взором обвела всех и прохрипела:
— Подите прочь! Надоели, постылые!
Ее опять не поняли. Тогда с силой, удесятеренной не. — навистью, она ясно и отчетливо произнесла:
— Идите все… — и по-солдатски объяснила, куда именно все должны пойти.
Сердечный друг Ванечка горестно закрыл лицо руками, отец Федор оторопело сморгнул и еще громче продолжал молиться, великая княгиня выпрямилась и поджала губы, лейб-медики не поняли и остались невозмутимы Только великий князь осклабился — из русского языка он успешнее всего усвоил его не лучшую часть…
В те времена очень хорошо понимали, что правда нужна далеко не всякая и что в воспитательных целях следует изображать действительность не такой, какова она есть, а какой должна быть. И в скорбном отчете о кончине блаженной памяти Елисавет Петровны, который был напечатан в особом приложении к "Санкт-Петербургским ведомостям", во всех подробностях было описано, как трогательно она прощалась с окружающими, наставляя близких жить в любви и согласии и, исполнив свой долг, просветленная, отошла в лучший мир с молитвой на устах… Не будем спорить.
Историки в прошлом любили лапидарно и однозначно определять характеры народов. Считалось, например, что "норманны были воинственны", "гунны свирепы", "восточные народы отличаются изнеженностью", а северные напротив того, — суровостью… Все подобного рода характеристики — совершенный вздор. В лучшем случае такие определения наивны и ошибочны, довольно часто они бывают и просто лживыми.
Однако если не претендовать на исчерпывающую полноту и бесспорность, подойти к этому без предвзятости и не искать у других народов недостатки для того, чтобы оттенять ими свои достоинства, то сопоставление национальных черт позволит увидеть как раз слабости и недостатки собственные. Известно, например, что французы — народ легкий, скорый на проявление чувств и особливо на язык. Произойдет что бы там ни было, француз тут же изречет какое-нибудь mot [54] и — как припечатает. Попадет, скажем, француз в трудное, неприятное или даже смешное положение, он пожмет плечами и скажет: "C' est la vie!" — такова жизнь! — и все. Голова у него больше не сохнет, ни себе, ни другим он ее не морочит, душу не теребит и не надрывает.
А вот у россиянина никакой такой легкости не было, чуть что, и начинался у него надрыв, выматывание душ чужих и собственной "проклятыми вопросами", всякого рода переживаниями и излияниями. Иногда, правда, излияния и переживания оказывались переливанием из пустого в порожнее, но это крайний случай, в большинстве же все было так серьезно, сложно и запутанно, что деловитые, практичные европейцы иной раз не могли взять в толк, какого рожна этой российской душе надобно, почему и окрестили ее "загадочной".
А как же было не метаться "загадочной" русской душе двести лет назад, когда то и дело происходили внезапные перемены в обстоятельствах жизни и особенно у кормила власти. Опять-таки — у французов и на этот счет была безотказная формула: le roi est mort, vive le roi! — король умер, да здравствует король! — и дело с концом. Короли следовали друг за другом в надлежащем порядке, а если исключения и бывали, то кратковременные. А возле российского императорского престола, после того как Петр I казнил сына и отменил прямое престолонаследование, то и дело возникала толчея, причем толчея разносемейная, разноязычная и даже разнополая. Разбираться в этой толчее было не легко, не просто, и потому какой-либо устойчивый ритуал утвердиться не мог, каждый раз происходило изрядное смятение умов.
Шилинг и Круз проделали все, что полагалось, — прослушали и не услышали остановившееся сердце, приоткрыли веки и увидели невидящие, неподвижные зрачки.
Шилинг сложил руки покойницы на груди и с приличествующей случаю торжественностью произнес:
— Die Kaiserin ist gestorben! [55] Согбенные плечи Шувалова затряслись от рыданий.
По щекам отца Федора струились и исчезали в бороде слезы. Он прижал пальцами веки Елисавет Петровны и положил на них тяжелые серебряные рубли, на которых еще так недавно был выбит профиль покойницы. Великая княгиня, мужественно и очень успешно борясь со слезами, поднесла к глазам платок. В это время раздался странный звук, все изумленно и даже испуганно оборотились к великому князю. Нет, ничего особенного не произошло: напряженно всматриваясь в лицо умирающей, Петр Федорович непроизвольно открыл рот, а когда тетка умерла, закрыл его и громко сглотнул воздух, отчего и произошел тот самый странный звук. Петр Федорович не заметил, какое это произвело впечатление, повернулся и, громко топая ботфортами, устремился из опочивальни.
Конечно, великому князю не следовало никуда уходить, но он ничего не мог с собой поделать: он не шел, не бежал — его несло, несла некая волна. Сколько раз уже подхватывала его волна надежды, поднимала все выше и выше, потом вдруг откатывалась назад, и он вновь оказывался на бесплодном песке ожидания. Он ждал двадцать лет. Двадцать лет им командовали, помыкали, пренебрегали и унижали. Все, кому не лень. Заполошная тетка, ее фавориты, министры, чуть не лакеи… Великий князь и наследник, ложась спать, не знал, кем проснется: снова наследником или только герцогом крохотной Голштинии, которого прогнали обратно, узником Санкт-Петербургской или Шлиссельбургской крепости или арестантом в заиндевелой кибитке, которого под конвоем гонят в ледовую беспредельность Сибири… Подполковник Преображенского полка, он не смел сделать гвардейцу замечание… И вот — все! Над ним больше нет никого!