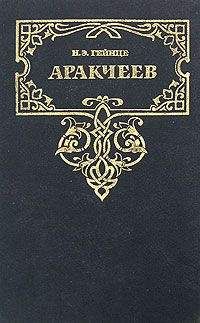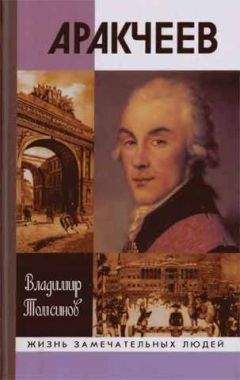Октавиан Стампас - Рыцарь Христа
— Она молчит! — воскликнул император. — Отлично! Она не возмущается, не трепещет от негодования, не убегает прочь в смущении. Она хочет его и затаенно ждет, что он выполнит просьбу своего отца. Ну умоляю, сделайте то, о чем я прошу вас и о чем вы сами давно мечтаете. Ну же! Негодные предатели! Как вы смеете не подчиняться приказу самого императора, самого помазанника Божия на земле! Ах так? Ну я заставлю же вас!
Он подбежал к императрице, схватил ее и стал срывать с нее одежду. Она сопротивлялась, он зарычал, как дикий зверь и разорвал верхнюю тунику, принялся было рвать нижнюю, но Конрад, подскочив к отцу, попытался оттащить его. Генрих изо всех сил ударил его своим огромным кулаком в лицо. Конрада откинуло ударом навзничь, он упал спиной на арфисток, ударившись затылком об одну из арф, которая, вывалившись из рук музыкантши, разбилась о гранитный пол. Веронки с визгом устремились вон.
Некоторое время Конрад был без сознания, а когда очнулся, то увидел, как обезумевший Генрих, содрав с жены все одежды, повалил ее на пол и бьет ногами по животу, по плечам, по бедрам. Вскочив на ноги, Конрад схватил тяжелый железный подсвечник, намереваясь ударить им отца по голове, и в это самое мгновенье в зал вбежала Мелузина.
— Фауст! — крикнула она. — Нельзя!
Император послушно прекратил избиение. Замер над скорчившимся на полу телом Адельгейды, разглядывая несчастную женщину, словно был недоволен, что не убил.
— Что за игру вы тут затеяли? А? — спросила ведьма весьма веселым голосом. — Разве можно так обращаться с женщинами?
— Она не жена мне больше, — произнес Генрих. — Она хотела на моих глазах изменить мне с моим собственным сыном.
— Конечно, только с ним она еще не успела тебе изменить у тебя на глазах. Вспомни, как она услаждала мужчин по кругу в замке Шедель. Очаровательная жрица Венеры. Как я завидую ее темпераменту и способностям принимать мужчин в несметных количествах. Редкостная, черт возьми, женщина.
Она подошла к императрице, склонилась над ней, внимательно разглядывая.
— Надо же, такие ушибы, и до сих пор не скинула, — покачала она головой. — Надо помочь ей подняться и увести ее. Изверг! Нельзя оставить тебя одного всего на несколько дней. Молодой человек, помогите мне приподнять вашу драгоценную мачеху. Ее нужно отвести в постельку.
— Не смей прикасаться к ней, щенок! — зарычал Генрих на сына, когда тот вознамерился было выполнить просьбу Мелузины. — Я вижу, ты рад пощупать ее голое тело.
Мелузина тем временем одна справилась. Она подняла бесчувственную императрицу на ноги, взвалила ее себе на спину и понесла, жутковато смеясь:
— Надо же, какая легонькая, прямо как я! Видать, не случайно в тебя мой Генрих влюбился.
— До сих пор у меня перед глазами эта жуткая сцена, — сказал Конрад, наливая себе вина, чтобы смочить пересохшее горло.
— Я немедленно отправляюсь в Верону, — вскочил я, — потому что еще с середины рассказа меня распирало желание скакать туда во весь опор немедленно.
— Сядьте, граф, — остановил меня Конрад. — Не спешите. Сперва дослушайте мой рассказ.
— Это еще не конец?! — вскричал я. — Что же еще сотворил этот страшный человек?
— Этот страшный человек — мой отец, — сказал король Германии с тяжким вздохом. — И он сам в страшной опасности, опутан, оморочен. Его тоже надо спасать.
— Этими же словами отговаривала меня императрица, когда я убеждал ее, что ей нужно бежать из Вероны до того, как он там объявится. И чем же все кончилось! Она, жалея его и желая его спасти, осталась, и вот теперь вновь опозорена и к тому же избита этим демоном, которого, видите ли, нужно спасать.
— Опозорена, избита, и потеряла ребеночка, сударь, так-то, — впервые прорвало Аттилу, который за все это время не проронил ни слова.
— Как? У нее все-таки случился выкидыш? — спросил я.
— Да, сударь…
— Помолчи, Аттила! Позволь королю Германии говорить в твоем августейшем присутствии, — грозно прорычал я на своего оруженосца.
— Да, — кивнул головой Конрад. — В тот же вечер после избиения у нее случился выкидыш. Она лежала без сознания, и все мы боялись, что она умрет. Но Бог сжалился над нею и не умертвил. Хотя, кто знает, в чем бы больше проявилась его жалость… Лишь к полудню следующего дня она стала открывать глаза и подавать признаки жизни. А в тот вечер, когда она лишилась плода, ее муж, император Римской империи и мой отец, напивался вином и устроил новую оргию. Он требовал, чтобы я явился к нему и испробовал — каких-то новых, только что привезенных Мелузиной шлюх. Я еле сдержался, чтобы не пойти и не убить его.
— Хорошо, что вы не сделали этого, ваше величество, — пробормотал Аттила. — Грех отцеубийства ничем не искупается, только если закопать живьем сто тысяч крыс в полнолуние, но разве ж это кому-нибудь под силу? Все, больше не скажу ни слова.
— Ужасно, что под утро следующего дня он явился ко мне и спросил: «Что, разве ты не идешь со мной в церковь?» Я спросил его, как он может являться в храм Божий после всех своих чудовищных выходок, как не боится он гнева Господня после того, как убил свое собственное дитя, избив до полусмерти беременную жену. И вдруг он стал развивать передо мной такую философию, что по мне не просто мурашки, тараканы забегали. Состоит она вот в чем. Оказывается, по его мнению, или по мнению какого-то мудреца, внушившего ему эти мысли, нынешние люди все без исключения дураки. Они поклоняются одному Богу. Язычники, правда, тоже были дураки, ибо поклонялись множеству богов. И никому не приходило в голову, что богов может быть двое, и тогда нужно поклоняться двум богам. В чем были правы, по такой теории, язычники, в том, что поклонялись и злым и добрым богам с одинаковым рвением. Отец же теперь стал поклоняться отдельно доброму и отдельно злому первоначалу. Он считает, что если признавать господином только Бога, то рано или поздно наскучишь Ему, и Он рад только будет уступить тебя дьяволу. То же самое и с дьяволом. Если предпочитать только его, грешить и подличать всю свою жизнь без продыха, он станет презирать тебя за преданность ему, ибо преданность — уже положительная черта, а чорту подавай исключительно отрицательные, если уж служишь ему. По мнению отца, жизнь настоящего человека, а тем более монарха, должна представлять собой постоянную езду из Царства Божия в чертог Сатаны и обратно. Тогда и тот, и другой станут помогать тебе, ревнуя тебя друг к другу.
— Однако, простите, ваше величество, — снова не утерпел Аттила, уж очень его увлекла такая философия, — ведь эдак можно оказаться тем, что в народе называют «ни Богу свечка, ни чорту кочерга».
— Это если ты прохладно исполняешь свою службу тому и другому, — ответил Конрад, нисколько не раздражаясь на моего болтуна. — А отец, или тот, кто придумал эту ересь, полагает, что если рьяно и искренне служить сразу обоим, то будешь обоим и мил.
— Это как у нас в Вадьоношхазе был один малый по имени Бела, — широко улыбаясь, почесал в затылке Аттила, — который умудрялся жить одновременно с двумя женами, и обе знали об этом, и ревновали его, а любили крепко, соперничая одна с другой, чтобы он только как-то раз не остался у. одной из двух навсегда.
— Аттила, прошу тебя, оставь нас, — сказал я.
— Но я еще свою историю не рассказал, чтобы вы могли простить меня.
— Я прощаю тебя.
— Нет, так не годится. Без оправданий нельзя прощать.
— Если ты не уйдешь немедленно, то я не прощу тебя никогда! Ступай сейчас же в дом капитана Гвидельфи и жди меня там.
— Гвидельфи?… Почти Гвинельефа… Иду! Иду! Уже ушел!
Наконец он удалился, и Конрад продолжил свой тягостный рассказ. Изложив свою философию, Генрих похлопал сына по плечу со словами: «Подумай об этом, сынок». Он расхохотался своим жутким смехом и добавил: «А теперь пора идти в церковь, не так ли, Конрад?» Но ему пришлось идти туда в одиночестве, никто не сопровождал его — жена лежала в постели почти при смерти, сыну была противна сама мысль идти в храм Божий с человеком, поклоняющимся Сатане, не Мелузине же было составить компанию Генриху! Вернувшись из церкви, император отчитал всех, кто не слишком ревностно служит Богу, а вечером устроил очередную оргию.
Тем временем остававшиеся в Вероне рыцари Адельгейды — Ленц, Люксембург, фон Альтена, Лонгерих, Кальтенбах и Димитрий — возмущенные поведением императора, начали составлять план заговора против него. Кальтенбах, Димитрий и Альтена были сторонниками самой крайней меры — убить императора и провозгласить Конрада единственной царствующей особой Римской империи, используя симпатии к нему со стороны местного населения и всей южной оппозиции. Остальные воздерживались от такого резкого шага, обсуждая возможности бегства Адельгейды из Вероны в сопровождении своей преданной гвардии. Но для этого нужно было ее согласие.
Императрица медленно поправлялась после пережитого несчастья. Поначалу казалось, что она окончательно надломлена, но молодость брала свое, и через несколько дней она даже впервые улыбнулась. Все эти дни Генрих не решался навестить ее. Когда ему доложили, что императрица выздоравливает, он отправился к ней и вошел в комнату, где она лежала, с сахарной улыбкой на своих лживых устах. Он заговорил было с нею, но она впервые перебила его и резким тоном промолвила: