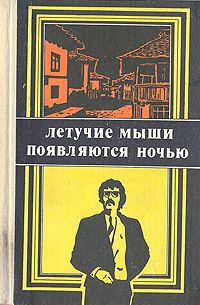Мухтар Ауэзов - Путь Абая. Том 2
Эти же угрожающие слова он повторил и в других иргизбаевских аулах и лишь к ночи ускакал в Ак-Томар.
С этого и началось. В каждом ауле беднота — батраки и пастухи — не находила себе места. Отеп не шутит. Конечно, завтра он выполнит то, что обещал. Не посмотрит на слезы, отнимет последнее. Разве он пожалеет нынче, если не жалел в прошлом году?
И к вечеру, когда дневные хлопоты со скотом закончились, растерянные, подавленные люди потянулись к белым юртам хозяев, бредя в сумерках печальными тенями.
В ауле Исхака первым вошел в байскую юрту старик Жумыр, пастух верблюжьего стада. На голове у него свалявшаяся, почти истлевшая баранья шапка, на ногах старые войлочные чулки. Драный чапан, подвязанный прокопченным арканом, потерял всякий цвет и напоминал тряпье, год пролежавшее на какой-нибудь покинутой стоянке. В этих лохмотьях старик выглядел так, словно сорвался с виселицы.
Гостей в юрте не было, в ней сидел лишь сам Исхак, опираясь спиной о высокую кровать, и возле него, облокотясь на груду подушек, полулежала холеная, надменная Манике.
Старик повернулся к хозяйке, с надеждой подняв на нее маленькие, красные от постоянного пребывания на ветру глаза.
— Нечем мне отдать покибиточный сбор и недоимку — заговорил он. — Вы знаете мою нужду. Кроме единственной кобылки, ничего нет… А говорят, еще одна тяжесть навалилась: «черный сбор» требуют.
— Ну, а мы при чем? — буркнул Исхак.
Манике, не поворачивая головы, недовольно поджала губы.
— Волостью управляем не мы. И не мы собираем налоги. Что ты хочешь от нас? Не тревожь людей попусту.
Но в душе Жумыра еще теплилась надежда.
— Думал, вспомнят труд старика, выручат из беды.
— Какой же труд? — холодно сказала Манике. — За что тебя выручать?
— Как какой? Я же все время тружусь на вас! Даже вот этот несчастный, кого ты прозвала Борбасаром, и тот пасет ваших ягнят! — сказал старик, подталкивая вперед большеносого мальчика с растрескавшимися до крови босыми ногами.
— Разве я мало даю за твой труд?
— Что же даешь, дорогая? Хоть раз брали мы плату?
— А у кого ты кормишься и зиму и лето? Что же, это не стоит платы?
— Кормишься!.. Разве это пища? Объедки, остатки, помои! Этого и для собак не жалко.
— Э-э, оказывается, у тебя еще и вредный язык, дохлый старикашка! Коли так, знай, что хорошая собака лучше ленивого пастуха! Понял?
— Ой, байбише, вон как ты колешь глаза бедняку! Не зря, значит, ты у моих ребят отняла человеческие имена! Для тебя все собаки!
И старик, трясясь от гнева, вышел из юрты, уводя с собой мальчика.
У Жумыра — двое сыновей. Старший — тот, что пришел с ним, второй — еще малыш. Их звали Такежан и Исхак. Когда старик появился в ауле и Манике узнала об этом, она возмутилась. У казахов имена повторяются редко, а у этого оборванца, как нарочно детей зовут так же, как сыновей самого Кунанбая! «Как смеют они носить имена наших мурз? Похоже на то, когда паршивый пес носит кличку Борбасар[26] — бушевала она. И тут же заявила — А впрочем, верно: пусть отныне старший называется Борбасар, а младший — Корер,[27] как зовут наших собак… Самые подходящие для них имена!»
И самовластная байбише заставила всех называть детей старика вместо их имен собачьими кличками. Об этом то и вспомнил сейчас с горькой обидой Жумыр, уводя сына от злобной хозяйки.
В этот вечер и в ауле Такежана тоже было горе. Возле продранной, ветхой юрты старуха Ийс, обливаясь слезами, доила свою единственную серую коровенку. В юрте ждали молока маленькие внуки Асан и Усен. Одному шесть лет, другому четыре года. Это дети умершего Исы, единственного сына старухи; мать их тоже недавно умерла. У старухи голова идет кругом: что же теперь делать? Требуют недоимки, а скота у нее — только вот эта одна серая коровенка. Неужели в последний раз она доит ее! «Чем же завтра я накормлю сироток? Что я им дам?» — всхлипывая, думала она.
И, уложив ребят, Ийс поплелась к Такежану.
В Большой юрте она застала Азимбая и Каражан. Сам Такежан, как бий первого аула, тоже уехал по вызову начальства в Ак-Томар.
До появления Ийс здесь побывали уже двое других бедняков. Они так и ушли, не добившись милости от Азимбая. Один из них был ночной сторож Канбак. На его просьбу помочь Азимбай ответил ему обвинением: этим летом Канбак заснул, и волк задрал двух ягнят. А когда начали разбираться, сторож вдобавок и надерзил. Азимбай напомнил, что он тогда же предупредил Канбака: «Вот приедут за недоимками, ты попомнишь этот день! Завоешь!»
Издевательство молодого хозяина вывело из себя Канбака. Он ответил, что вот уже третий год не получает никакой платы — его утешают только тем, что платят за него недоимки. А нынче и в этом отказывают! Азимбай крепко его выругал и, угрожая плетью, выгнал из юрты.
Вторым просителем был Токсан. Много лет доит он такежановских кобылиц. Ему уже тридцать пять лет, а он все никак не может выплатить за свою невесту стоимость пяти верблюдов. Так и живет бобылем, без семьи, без крова, привязанный к байской юрте. Азимбай все обещает ему уплатить за невесту, родители которой тоже живут в батраках такежановского аула, сторожа зимовку. Азимбай подговаривает их не отдавать пока Токсану свою дочь, обещая выколотить из него настоящий калым. А самому Токсану он все не платит за службу, держа его таким образом на привязи в своем ауле. Дело в том, что Азимбай узнал намерение Токсана откочевать после женитьбы в другой аул, а лишаться такого старательного хорошего работника не хочется. И сегодня он тоже ничем не помог Токсану, ответив ему одними издевательствами.
Третьей пришла сейчас Ийс. В слезах она обратилась к Каражан, напомнила, что зиму и лето она вила арканы, веревки, поводья, недоуздки, чембуры для всего аула. Слезы старухи как будто тронули Каражан. Она обратилась к сыну:
— Разве ее юрту не вычеркнули из списка налогов? Такое мягкосердечие матери разозлило Азимбая, и он резко ответил:
— Я, что ли, распоряжаюсь списками? К чему ты об этом говоришь?
Старуха Ийс взмолилась: у нее одна лишь кормилица двух сирот — коровенка, отнимут ее — совсем обнищаешь. Но ее слезы не тронули Азимбая. Наоборот, по его расчетам, старуху нужно было покрепче приторочить к их аулу. Пусть она настолько зависит от юрты Такежана, что даже не посмеет и думать о жизни вдали от нее. Тогда она еще старательнее будет вить арканы.
Поняв холодную жестокость Азимбая, старая Ийс зарыдала в голос, вспоминая, как погиб ее единственный Иса.
— Из-за твоего же стада простился с жизнью мой сын! Разве не мог он бросить его в ту ночь и уберечь себя? А он в дырявой одежде спасал от бурана заблудившихся овец. Простыл тогда, зачах и умер мой родной! Душу положил за твой скот, а у тебя и к его детям жалости нет.
Азимбай грозно прикрикнул на старуху:
— Уж не пеню ли ты хочешь получить за него? Попробуй взыщи! Прочь из моего аула, убирайся от нас, живи где хочешь.
Выгнав наконец старуху, он решил и в самом деле оставить ее без коровы, чтобы навсегда накинуть на нее петлю неволи.
Ийс поплелась к своей юрте, проклиная хозяев:
— Погибель вам! Пусть горе мое обрушится на вас, пусть слезы моих сирот прожгут ваши сердца! У лютого врага лучше просить защиты, чем у вас!
И, обняв двух своих малюток, она проплакала всю ночь.
— Сиротинушки вы мои несчастные! Куда мы теперь с вами денемся? — Слезы обильно катились по ее изможденному лицу, тяжелые вздохи раздирали грудь.
В эту ночь такие же мольбы и гневные проклятья раздавались в аулах Майбасара, Акберды, Ырсая и других баев из рода Иргизбай. И богачи Котибака, Жигитека, Бокенши в этот вечер также не слышали от своих батраков и соседей ничего, кроме мольбы о помощи, а потом проклятий или смелых правдивых слов укора и обвинения.
В ауле Сугура из рода Бокенши уже началось взыскание недоимок. Бии и старшины угодливо и подобострастно окружили приехавшего туда крестьянского начальника Никифорова. Именем Мекапара — так произносили они фамилию начальства — они и приказывали, и угрожали, и запугивали бедный люд всей окрестности:
— Мекапар сам сказал!
— Мекапар нынче сердитый!
— Мекапар строгий начальник, попробуйте его ослушаться!
Вопли, стоны и слезы с утра стояли в окрестных аулах бокенши, борсаков и жигитеков. Здесь выколачиванием недоимок занимались урядник и пристав, которого народ за его алчный нрав и жадность ко взяткам давно уже прозвал «Кок-шолаком».[28] Нынче и урядник, который безжалостно отбирал у людей последнее, пуская в ход нагайку, получил прозвище: его фамилию — Сойкин — стали произносить «Сойкан» (хищник). Вчера он для устрашения людей избил шабармана Далбая и исхлестал до крови нагайкой пятерых бедняков борсаков, которые не к сроку пригнали свой скот. Сами аульные старшины говорили о нем: «Наш Сойкин без плетки и взяток дня не проживет». В этой своре насильников особенно отличался еще и писарь Чингизской волости Жаман Гарин. За его жестокость и бешеный нрав бедняки рода Бокенши называли его «Кабан-гарин» (черный кабан).