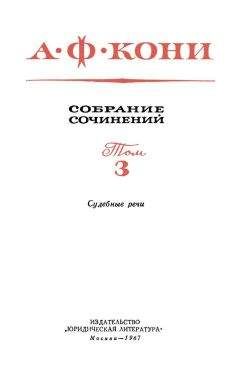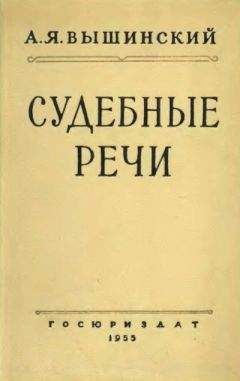Георгий Лосьев - Сибирская Вандея
– Ромка, подавай!..
Новый главный врач вьюнской больницы за час до приезда Губина закончил обход больных и вызвал к себе завхоза Гришина.
– Получили в Колывани медикаменты? Нет? Так и знал. Некогда. Надо воевать с большевиками?!. Оказывается, вы – член повстанческого штаба?
Родственник недавнего «главнокомандующего войсками Сибирской Директории» почтительно сослался на Комиссарова и Некрасова.
– Эти люди меня не касаются. Они были моими знакомыми, пациентами были, – подчеркнул многозначительно доктор, – а вы совсем иное… Ну, каково впечатление от событий, господин член штаба?
– Ошеломляющее! Село бурлит! Я бы сказал, вооруженная стихия бушует! Куда там справиться советской власти с подъемом народа! Захлестнет! Россия вздымает меч возмездия!
– В уездном масштабе, – иронически усмехнулся доктор и окинул его долгим испытующим взглядом. – Вы – эсер?
– Конечно. Я не скрывал от вас своих воззрений!
– Сено косить умеете? За плугом ходить? Коня запрячь? Жать?…
– Позвольте, что за странный допрос?
– Ничего этого вы не умеете!
– Доктор! Не понимаю…
– Вот что, господин Гришин-Алмазов…
– Пардон! Я только Гришин… Моя мамаша…
– Подождите. Ваша генеалогия меня не интересует.
Доктор открыл ящик письменного стола, достал «кольт» и две пачки денег-керенок. Пистолет сунул в карман, деньги протянул завхозу.
– Берите. Здесь ваше жалованье, вперед за полгода. И вот что, сегодня же исчезайте.
– Помилуйте!
– Не помилую! – в голосе доктора звенел металл. – Если не исчезнете, не помилую.
– Но…
– Что но? Может быть, я когда-нибудь выступал против Советов? Может быть, вы слышали, что я подстрекал к мятежу?
– Н-нет… Не слышал…
– Отправляйтесь немедленно!
Завхоз понуро вышел. Доктор крикнул в полуоткрытую дверь смежной комнаты.
– Войдите, Валерия Викторовна!..
В кабинет вошла старшая сестра.
– Вы слышали, Валерия Викторовна? Подумать только, примкнул к мятежникам! По-настоящему – его следовало бы передать в руки законных властей… Но не могу я… Расстреляют! Ужасно!
– Как вы добры, доктор! – молитвенно сложив руки на груди, произнесла сестра.
Провожаемый, влюбленным взором, доктор отправился в самую дальнюю палату больницы.
Вход в эту палату был заставлен большим шкафом, так что войти в нее можно было, только протиснувшись в дверь боком. Коридор не освещался. Палата, собственно говоря, представляла собой крохотную комнатку. Когда-то ее использовали как бельевую. Теперь здесь стояли две кровати. На них лежали красноармейцы, доставленные сюда с лесозаготовок накануне мятежа. Оба не могли двигаться из-за перелома ног.
Под подушкой старшего красноармейца лежал партийный билет.
Оба знали, что за окнами бушует банда, слышали грохот стрельбы. Каждую ночь ждали смерти. Доктор Соколов, «великий человеколюб», спас их. Или, во всяком случае, пока спасал.
– Как самочувствие, товарищи? – спросил главврач, присев на койку старшего бойца. – Болят ноги?
– Сердце болит, товарищ доктор, – вздохнул солдат. – До чего же сердце болит! Ну, что там?
Соколов ответил шепотом:
– Все то же. Многих убили… Не всем так повезло, как вам, братцы…
– Спасибо! Век помнить будем, коли живы останемся.
– Надо надеяться. Думаю, еще три-четыре дня… Потом придут наши. Но, все же… возьмите-ка ту штуку.
Соколов подал старшему красноармейцу «кольт».
– Осторожнее. Заряжен.
Красноармеец жадно ухватил оружие обеими руками, прижал теплую сталь к груди.
– Ну, товарищ доктор!
Доктор поднялся с койки, заботливо поправил одеяло.
– До свидания, товарищи, до завтра. Крепитесь. Больше выдержки.
– Вот душа-человек! – восторженно сказал младший боец, когда дверь за доктором плотно прикрылась. – Эх, и мне бы!..
– Ладно! С этой пушкой я за двоих отвечу бандюгам!
Душа-человек в этот момент уже шел навстречу Губину. В кабинете доктор строго посмотрел на гостя.
– Почему без супруги приехали, Михаил Дементьевич? Мы же условились: все встречи в присутствии вашей болящей.
Губин харкнул в окно, прошелся по комнате.
– Не до того мне. Плохо. Прахом идет дело!
– Знаю все, батенька, знаю. Поторопились и переборщили вы с коммунистами. Надо же было шум поднимать на весь уезд! Слушайте: у каждого врача на случай серьезных осложнений всегда есть в запасе сильнодействующее средство. Все испробовано, и другого выхода нет. Скажите, вы большевиков всех прикончили?
– Которые в подвалах, покель дышут.
– Нужно одного-двух из большевистской головки завербовать. Вот что, Михаил Дементьевич…
Беседа была непродолжительной, но тактически содержательной.
Вскоре доктор вызвал сестру-фармацевта.
– У супруги Михаила Дементьевича опять осложнение. Слегла. Вот рецепт. Приготовьте сейчас же!
Забрав лекарство, Губин уехал несколько окрыленным.
Придя домой, Соколов заперся в кабинете на ключ и сел за письмо в далекий Иркутск некоему «коллеге». Долго и тщательно обдумывая каждую фразу, доктор писал:
«…Таким образом, несмотря на все принятые меры, фурункул прорвался преждевременно. Создался миниатюрный, но весьма болезненный локальный абсцесс, к сожалению, отодвинувший на неопределенное время санацию всего организма. Собственно, этого следовало ожидать, учитывая грубое знахарство коновалов из рассыпавшейся прошлогодней корпорации плюс профанацию от „сибирской гомеопатии“, тоже приложивших руки к лечению. В связи с наличием септических явлений в ближайшие дни следует ожидать решительного вмешательства хирургов и ампутации. В этих условиях общая санация будет надолго отложена. Будучи приглашенным для консультации, я порекомендовал единственное доступное сейчас средство – переливание, но сомневаюсь в эффективности… Найти в местных условиях подходящую группу крови вряд ли возможно… Прошу вас, коллега, изложить свои соображения. Я же, на сей раз, умываю руки».
Запечатав письмо, доктор подошел к умывальнику и действительно стал мыть руки. Большие, красивые руки, из тех, что принято называть умными.
XI
Если подойти к покатому подоконнику, немного наклониться и взглянуть вверх, в узкий зарешеченный прямоугольник подвального окна, сперва увидишь смазанные сапоги бандита-караульного, потом, когда сапоги сделают два шага вправо и влево, откроется кусочек бирюзового неба. Воля!..
Их было девять в этом подвале, захваченных мятежниками, уцелевших от расправы в первый день восстания, большевиков. Присев на корточки, вглядывались в голубую полоску неба, жадно ловили струившееся в сырость подземелья солнечное тепло, подставляли лучам узловатые, натруженные руки.
Избитые, в окровавленных лохмотьях, они молчали. Каждый знал: будет закат, за ним придет ночь, и, может быть, ночь эта станет для них последней. Так о чем говорить? Ведь даже предсмертного наказа не оставишь! Думали каждый о своем. Всех придавила тяжесть неотвратимого конца.
И вдруг из полутьмы в углу – голос. Хриплый, но по-солдатски грозный:
Вставай, проклятьем заклейменный!..
Обреченные недоуменно оглянулись, сдвинулись.
Пел волостной военный комиссар Василий Павлович Шубин.
Кто-то чиркнул уцелевшей зажигалкой. Шубин стоял, опираясь спиной о кирпичную кладку неоштукатуренной стены, зажав в кулаках по кирпичному обломку. Лицо его в запекшейся крови было страшным.
Коммунисты слушали, и с каждым словом гимна неотвратимость отодвигалась все дальше и дальше на задворки сознания, а сердце наполнялось ощущением близкого боя.
Подвал грянул хором:
И в смертный бой вести готов!..
Часовой с улицы крикнул в окошко:
– Замолчь!
В него швырнули половинкой кирпича. В ответ ударил выстрел. Узники колупали кирпичную кладку гвоздем, срывая ногти, пальцами тащили обломки в общую кучу. Кто-то обрадованно крикнул:
– Ребята! Вот!..
Невесть откуда и как попавший сюда обломок серпа ускорил дело.
Часовой пальнул в подвал второй раз. Пуля, отбив кусочек стены, волчком завертелась на полу.
Град кирпичных осколков полетел в окно. На улице послышался топот сапог, раздался визгливый тенорок Жданова:
– Тебе кто стрелять дозволил?!
– Так воны ж каменюками у морду! – оправдывался хохол-часовой. – Ось бачьте, як раскровянылы… Стинку рушат!..
– Рябков, заступай ты. После подмену пошлю. Да с винтарем без приказу не балуй!
В подвале замолкли. Слушали. Жданов, стараясь держаться от окна подальше, крикнул:
– Эй, коммуна! Разговор имеется. Сыпьте к дверям, член комитета говорить будет.
В коридоре зашаркали чьи-то подошвы, послышался старческий кашель, с хлюпаньем, присвистом. Елейный голос Базыльникова спросил:
– Шубин тута?
Коммунисты насторожились. Василий Павлович подошел ближе к двери.