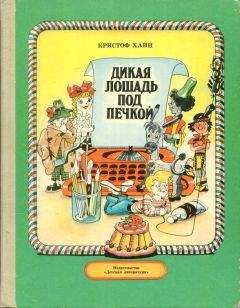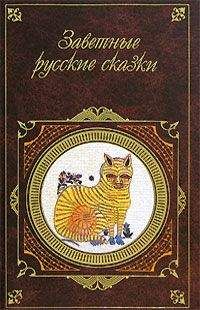Сергей Кравченко - Яйцо птицы Сирин
Состоялся громогласный диалог между Болховским и Варсонофием. Боярин выражался в том смысле, что длань государства российского распростерлась над исконной землей Русской и достигла края отчизны, нажимал на преимущества, которые малые дети сибирские восчувствуют от отеческой любви Московского царя, всесветно известного милосердием и чадолюбием.
А Варсонофий басил о своем: «Господи Боже! Призри с небеси и виждь, и посети виноград сей, и утверди то, что насадила десница Твоя, — этих новых людей, которых сердца обратил Ты к познанию Тебя, Бога истиннаго. Призри и на церковь Твою сию, которую зижду я, недостойный раб Твой, во имя родшия Тя Матери, Приснодевы Богородицы, и, если кто помолится в церкви сей, услышь молитву его ради Пречистой Богородицы под сенью Честнаго Креста!». Богоматерь, таким образом, как бы назначалась депутатом от Искерского избирательного улуса для лоббирования сибирских дел в высшей небесной палате.
Затем Варсонофий указал Болховскому на необходимость беречь вверенных ему новых людей, а Болховской просил Варсонофия, что и ты, отец святой, поддержи наши грешные усилия своей молитвой. Варсонофий кивнул всем телом и задумался, как это можно поддерживать «грешные дела»? Возникла пауза, которую Болховской заполнил переводом стрелок на Ермака. Вот, сказал он, стоит человек, проложивший путь царю земному к его детям, и вот что царь пишет ему, и вот чем жалует!...
Болховской многозначительно замолчал, обвел народ грозным взором и приоткрыл рот. Но звук раздался сбоку и несколько сзади. Это стряпчий Биркин выступил из толпы и стал борзо читать жалованную грамоту. Болховской еще какое-то время шевелил губами и нижней челюстью, — это он пытался выковырять из зубного дупла добрый кусок медвежатины, неуместной на церковном мероприятии посреди великого поста. Но публика о пищевом грехе воеводы не знала и подумала, что он пытается выступать под фанеру. Тут мы должны приоткрыть еще одну тайну, куда более страшную и грешную на наш взгляд, чем скоромное чревоугодие, — окольничий государев, член большой Думы Московской, а ныне Сибирский воевода боярин Болховской не умел читать!...
Зато его тезка Биркин тараторил с листа.
Он как раз прикончил полный титул Ивана Васильевича, проскользнул по «княжескому» титулу Ермака, повелению звать его «с вичем» и перешел к главному пункту мероприятия. При этом Биркин непочтительно ткнул локтем отца Варсонофия, тот понял опасность момента, перекрестился три раза вместо уставных двух и занялся кадилом.
Биркин огласил великое жалованье Ермолая Тимофеевича национальной святыней — «зброей отца русских богатырей Святогора». Он красочно модулировал голос на легком морозце, играл струями пара изо рта, короче, красовался щелкопер.
По Биркину-Грозному выходила Ермаку такая честь, как если бы, например, нашего рядового-необученного приодели в музейную чапаевскую бурку или парадный мундир маршала Огаркова. Тут Болховскому подтащили доспех, он стал напяливать грудной панцирь на Ермака, и чтобы скрасить заминку, понес отсебятину о Вещем Олеге, вратах Цареграда и Трех Богатырях. Он это не нарочно завернул, ибо не знал, что Святогора урыл живьем под неподъемной каменной гробовой крышкой именно Илья Муромец, впоследствии инок Киево-Печерской Лавры. Впрочем, получилось забавно. Урыть «сибирского Святогора» действительно собирались «три богатыря» — Болховской, Глухов и Биркин.
Наконец панцирь сошелся на Ермаке, новые кожаные шлейки затянулись в пряжках. Две половинки панциря, как две ладони донской устрицы стиснули спину и грудь казака, стало трудно дышать, в глазах покраснело, колени непривычно ослабли и стали подгибаться. «Надо будет ремешки удлинить», — подумал Ермак. Он метался в поисках случая, чтобы пойти да переодеться, водил глазами по толпе. Увидел Айслу — в стороне от толпы, под стеной Большого дворца. Немного полегчало. Глянул выше. Там на подоконнике второго этажа сидела в своей клетке Птица. Она смотрела любопытно то на кучку клириков, то на стрельцов, то на Ермака в сверкающих доспехах. Их глаза встретились, и Ермак совсем пришел в чувство.
Неизвестно, как развивались бы дальнейшие торжества, и удалось бы Биркину организовать «апофеоз», но все пошло насмарку. Уже татары костры на льду запалили, уже борцы подпрыгивали и разминались, уже раздавались азартные крики болельщиков, когда на льду Ишима показался медленный всадник. Сначала он был черной точкой, потом стали видны конь и седок отдельно, и что-то в его облике привлекло внимание гуляк. И скоро стало ясно, что. Всадник раскачивался в седле, как чучело зимы, которое упорные язычники на Руси нет-нет, да и отпускают верхом на смирной лошади прочь с глаз своих.
«Чучело» упало с коня шагах в двухстах от пристани. К нему побежали, подняли, понесли. Казаки опознали своего — одного из товарищей атамана Михайлова. Он был в засохшей крови, черен лицом, бездвижен конечностями. Прежде чем помереть, успел ответить: «Татары..., наши татары». Казаки закричали измену. Возникла беготня и неразбериха. Ермак прогрохотал наверх дворца — в свою клеть, сбросил панцирь и нарядный красный плащ, взял настоящее оружие, успел на ходу шепнуть Айслу пару ласковых слов и присоединился к своей полусотне.
Стрельцы Болховского тоже толпились без команды, попы убрались во дворец, народ разбегался по домам. Не хватало только в набат ударить. Хорошо, что церкви с колокольней пока не было.
Среди общей растерянности бледнее всех выглядел Биркин. Он боялся не татар. Он просчитал, что раз один казачок недобитый смог подняться с того света, отвязать в буераке коня, влезть в седло, проехать несколько верст, то другой — вполне может подъезжать сейчас к тайной казачьей станице. А значит, полк Пана перехватит любого гонца на Тобол, и сам здесь будет уже к ночи. Исполнители «приговора по Михайлову», конечно, отъехали в дальние улусы, но их знали, легко могли найти и допросить. Пусть, даже после ледохода.
Наконец Биркин взял себя в руки.
— Князь! — впервые назвал он Ермака нелепым словом, — давай по следу людей пошлем, посмотрим, откуда нападение случилось.
— Давай... — протянул Ермак, осматривая стряпчего, — сейчас пошлю.
Вскоре отряд из шести всадников Кольца и двух саней со стрельцами полетел вверх по Ишиму. В передних санях ехал Биркин — «главный по розыску».
Следы читались четко. Метель прекратилась более недели назад, снег был плотный, но не каменный. Было видно, что лошадь раненого конвойца шла всю дорогу шагом, по собственному разумению — без повода. Шел пятый день от пропажи Михайлова, рана конвойца при осмотре оказалась совсем почерневшей, запекшейся, поэтому кровавых следов никто и не искал. Наконец конский след завертелся клубком, — лошадь топталась на месте.
«Это она выбирала путь» — догадался Биркин.
От клубка ниточка следов тянулась в лесистый овражек на западном берегу Ишима. Побежали туда и сразу услышали конское ржание. В зарослях мелколесья стояли три продрогшие, исхудавшие татарские лошади, привязанные к деревьям. Здесь нашелся и кровавый след. Темно-красные точки усеивали снег на вытоптанном пятачке. Здесь раненый садился в седло. Его следы вели из глубины оврага. Видны были также многочисленные отпечатки татарских бескаблучных сапожек, полосы от волока тел. Трупы Михайлова и двух казаков обнаружились неподалеку, лишь слегка прикиданные снегом. Виднелось место, с которого поднялся недобитый, читалось, как он полз к коням.
Биркин немного успокоился. Никто не поскакал к Пану, и никто до поры не распутает этого дела. Немного поспорив с Кольцом о подозрениях, Биркин приказал забрать тела, отвязать коней, собрать в мешок все мелочи на вытоптанных пятачках и ехать в Искер.
Глава 35
1584
Москва
Яйцо
Настроение у Ивана Грозного было постное. Не в том смысле, что он календарные особенности русского меню исполнял и девок в подклети не беспокоил, а просто противно ему было. В жизни каждого человека бывают моменты, когда все окружающее кажется знакомым, много раз пройденным, изведанным, известным наперед. И человек вспоминает детство с конфетами «Подушечки», восторг от первых зрелищ, запахи далекой весны, и вздыхает: «Теперь такого нет!».
И что бы не обещали нашему всезнайке, чем бы не манили, все ему скучно, все легко представляется «во мыслиях», вспоминается по прошлым разам. И вино его не веселит, и ласка не греет, и власть не бодрит. Смотрит паралитик на половецкие пляски, на гибкость, скорость, завлекательность и ворчит: «Ну, и что с того? Сейчас напляшутся, напьются, наваляются, отрубятся, и подумают, что цель достигнута... Молодежь!»...
Вошел Федор Смирной. Доложил о текущих делах. Тоже они были кислые. Перемирие с Польшей длилось исправно, захваченные Баторием земли не партизанили, не взывали к Москве. Готовились к весеннему севу. Спор с соседями о главном имении Ивана — царском титуле, вертелся бесконечно то вокруг неприятия слова «царь», то вокруг перечня «вотчинных» городов и земель. Одни не хотели называть Ивана Смоленским, другие, наоборот, — Астраханским. Третьи опасались расширения «и иных», все им мерещилось собственное попадание в эти безъязыкие и безносые «иные».