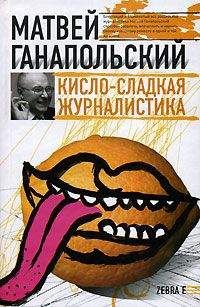Федор Зарин-Несвицкий - Тайна поповского сына
Воля государыни должна была быть исполнена во всяком случае, и притом немедленно. Это понимали и барон, и его умный секретарь. Оставалось одно: обратиться лично к герцогу и просить его замять дело.
"Ведь не зверь же, в самом деле, Эрнест, — думал Густав, — если у него не хватает немного сердца, то голова-то у него в порядке. Он не может не понять, что проступок молодого офицера не представляет государственной измены и заслуживает снисходительного к себе отношения".
С этими мыслями он отправился к брату во дворец.
Густав бывал у брата в последнее время довольно часто. Во-первых, как командир ближайшего к императрице полка с рапортами, потом обсуждал с ним условия вступления в столицу победоносных войск, парадом которых перед императрицей должен был командовать Густав, и еще для устройства своих личных дел по поводу его намерения жениться на Якобине Менгден.
Эрнест принял его, как и всегда, покровительственно-сухо.
— У меня просьба к тебе, — сразу начал Густав.
Герцог скривил губы и недовольно ответил:
— Денег нет. Наверное, что-нибудь для полка, либо новые казармы, либо приварочные. Ни один полк не стоит так дорого, как Измайловский.
Действительно, при каждой встрече с братом Густав ухитрялся что-нибудь выхлопотать для своего полка.
— На этот раз не то, — взволнованно проговорил Густав.
— Так что же еще? — хмуро спросил герцог.
Густав сейчас же со свойственной ему горячностью рассказал о деле сержанта.
При первых же словах его глаза герцога приняли привычное выражение непреклонной жестокости, и в ответ на просьбу брата о прекращении дела он холодно ответил:
— Этого не может быть.
— Но почему, почему, — взволнованно заговорил Густав, — да, конечно, я не спорю: офицер нарушил воинскую дисциплину, он не прав, я знаю это, его, конечно, следует наказать. Да, но только не Тайная канцелярия! О, только не она! — с искренним возмущением говорил Густав. — Тем более, — продолжал он, — что Брант дурной офицер, я кое-что тоже слыхал о нем в армии…
Глаза герцога сверкнули.
— А, вот как, тогда тем хуже для твоего сержанта!
Густав удивленно взглянул на него.
— Как так, почему? — с недоумением спросил он.
— А потому, — медленно ответил герцог, — что ты повторяешь слова Волынского. Чем больше будет вас на его стороне, тем хуже будет тем, кого вы защищаете…
— Но почему же, — воскликнул Густав, — почему императрица простила старика Кузовина, а он больше виновен, чем Астафьев и Кочкарев. Где же справедливость?!
— Справедливость, — с едва заметной усмешкой начал герцог, — справедливость там, где интересы государства. Брант назначен мною! Если сегодня я признаю, что назначенный мной начальник заслужил того, чтобы не исполнялись его распоряжения, изданные моим именем и именем императрицы, то завтра в десяти местах признают негодными поставленных мною людей, а через полгода настанет народный бунт. Но не в том даже дело… Что мне до какого-то сержанта Измайловского полка или каких-то саратовских дворян? В другое время я исполнил бы твою просьбу, но теперь!..
Герцог стремительно встал с места и сильно ударил ладонью по столу.
— Никогда! Пусть они будут невинны, как младенцы, пусть Брант достоин колеса, они все же должны погибнуть.
Каменное лицо герцога выражало неукротимую жестокость.
Густав ничего не понимал.
— Я не понимаю, — сказал он.
— О, это несомненно, — презрительно произнес герцог, — ты не понимаешь… знай только одно, что эти люди вмешались случайно в роковую игру… что под моими ногами разверзлась бездна, что, если я пощажу их, императрица скажет, что это благодаря Волынскому, что Волынский был прав, а я жесток и несправедлив. Если я пощажу их, императрица поблагодарит Волынского. Если я пощажу их, все враги мои поднимут голову и открыто станут на сторону Волынского. Императрица сильно постарела, она больна, подозрительна. Часто плачет, много молится и упрекает меня в жестокости!.. Ах, ты ничего не понимаешь! — в бешенстве уже закричал герцог. — Но они должны быть виновны, и они будут виновны! Довольно. Я сказал! Не проси больше ни о чем. Если ты сам не понимаешь, что вся твоя судьба это я… тогда я заставлю? тебя! Именем императрицы я приказываю тебе сегодня, сейчас же по возвращении в полк, отправить сержанта в Тайную канцелярию. Но если ты ослушаешься, тогда, — закончил Бирон, страшными глазами глядя на брата, — тогда, чтобы доказать мою преданность императрице, я предам тебя суду, и тогда навеки простись с прекрасной Якобиной.
При последних словах Густав изменился в лице. Он встал и холодно, с достоинством, произнес:
— Меня нельзя испугать, ваша светлость, и мне не нужны угрозы. Приказ ее величества для меня священен. Долг старого солдата — исполнить его. Пусть этот приказ ляжет на вашу совесть, и помолитесь Богу, чтобы Он не вменил его вам в смертельный грех.
Герцог нетерпеливо махнул рукой, и Густав вышел.
Приказание было слишком категорично, чтобы можно было ослушаться его.
Впервые Густав ясно увидел, какими путями идет его брат. Но сознание того, что он всем обязан своему брату, воспоминания детства заставили его невольно подыскивать оправдания суровому Эрнесту.
Да, как ни жестоко это, но иногда приходится кем-нибудь жертвовать для общего блага. Может быть, брат хочет только напугать своих врагов, а потом сам исходатайствует для сержанта помилование… Да, конечно, наверное, так и будет. Эти мысли несколько успокоили добросердечного барона, но все же ему было чрезвычайно тяжело отдавать любимого им офицера в руки Ушакова.
Приехал барон сильно не в духе, распек дежурного, немного запоздавшего с рапортом, остался недоволен состоянием караула и немедленно вызвал к себе Розенберга.
Бирон во всех подробностях передал ему свой разговор с братом.
Розенберг уже раньше слышал про столкновение герцога с Волынским и сразу в душе решил, что сержант Астафьев погиб. Он жалел молодого человека, но, несмотря на всю свою изворотливость, ничего не мог придумать.
— Делать нечего, — грустно произнес он, — надо сержанта передать в Тайную канцелярию.
Эти страшные слова опять заставили сжаться сердце Густава.
"Тайная канцелярия! Тайная канцелярия!" — эти два слова, как молотом, ударяли его.
— Надо подписать ордер, — проговорил Розенберг, с обычной деловитостью присаживаясь к столу.
Барон молчал.
Через минуту уже написанный Розенбергом ордер лежал перед ним.
Густав взял перо и задумался.
Через несколько мгновений он с шумом вскочил.
— Да неужели же ничего нельзя выдумать, Розенберг? — вскричал он, бросая перо. — Но я не могу, не могу!..
Густав схватился в искреннем отчаянии за голову. Розенберг молчал.
— Вели привести сюда Астафьева, — сказал наконец Густав, — я хочу поговорить с ним.
Розенберг вышел из комнаты. Он сам был сильно расстроен.
Густав взволнованно ходил по комнате, но его голова, вообще небыстрая на работу, теперь совсем отказывалась служить.
Когда вошел Астафьев и остановился у порога, барон в первую минуту не нашелся, что сказать.
Розенберг, пришедший вместе с сержантом, тоже стоял молча. Прошло несколько мгновений тяжелого молчания.
— Здравствуй, — отрывисто произнес наконец барон, не глядя на сержанта.
— Здравия желаю, ваше высокопревосходительство, — ответил Павлуша.
За долгое время сидения на гауптвахте Павлуша похудел и побледнел, но держался очень твердо. Его особенно удручало то обстоятельство, что он не имел никаких известий ни об отце, ни о семействе Кочкаревых и сам не мог передать им никаких вестей о себе.
Хотя он и содержался на гауптвахте, но все же, ввиду тяготевшего над ним обвинения, его содержали отдельно от других в одиночном заключении, в большой строгости и секрете. Отчасти Густав хотел, чтобы об этом деле говорили как можно меньше, надеясь оттянуть время.
Павлуша со слов самого барона знал, что ему грозит Тайная канцелярия, но все же рассчитывал на его покровительство, а также питал смутную надежду, что отец, может быть, что-нибудь да устроит для его спасения.
Но дни проходили за днями, положение не изменялось, известий не было никаких.
— Да, видишь ли, — начал барон, заметно волнуясь и хмуря брови, — я говорил тебе, что герцог требовал отправить тебя немедля в Тайную канцелярию.
— Говорили, — ответил Астафьев, — но зная себя невинным, уповал, что меня выпустят на волю.
— Я не хотел того и долго держал тебя на гауптвахте, — продолжал Густав, — я хлопотал, как мог… но послушай, ведь ты же знаешь… служба… присяга…
Павлуша сразу по хмурым бровям и смущенному виду командира понял, что его ожидают неутешительные вести.
— Это значит, ваше высокопревосходительство, — тихо и твердо ответил он, — что меня отправляют в Тайную канцелярию.