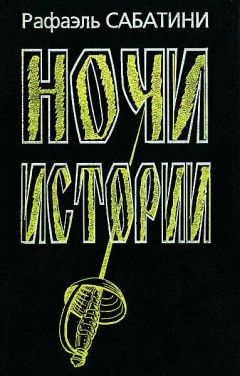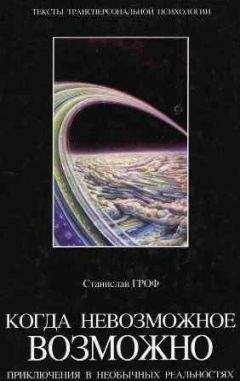Борис Тумасов - Лжедмитрий II: Исторический роман
Улегшись на воеводской кровати, Веревкин подумал: не одного его царский венец манит.
Небо вызвездило, и татарский шлях вытянулся серебристой лентой. Перекликается стража, горят костры.
Кутаясь в кожух, Меховецкий выбрался на свежий воздух. Душно в избе, и тараканы одолели. Поглазев на повисший над колокольней месяц, гетман зевнул шумно. Высокий, сутулый, потоптался на морозном снегу.
— О, матка бозка, зимно!
Полгода, как Меховецкий следует за новоявленным царем. Из шинка Янкеля привез Матвея Веревкина на хутор, выведал, каков он, и, убедившись, что грамотен и умом не обижен, хотя до первого Лжедмитрия далеко, свел со стольником Молчановым…
Меховецкий время не терял, писал письма по воеводствам, звал шляхту в войско Дмитрия, заверяя в истинности его царского происхождения. И хоть понимал, не письма прельстили шляхту, а звон золота, однако продолжал писать в Речь Посполитую.
Появление в Чернигове вельможного пана Ружинского с большим отрядом насторожило Меховецкого. Ну как не признает князь Роман его гетманом? Разве что поопасается канцлера. Ведь Меховецкий приставлен к новоявленному царю Димитрию самим Сапегой, он уши и глаза канцлера при самозванце. То, о чем Меховецкий Льву Сапеге сообщает, становится известно королю.
Размышления гетмана нарушил невесть откуда взявшийся Заруцкий:
— Никак пан… Меховецкий? — выдохнул винным перегаром. — Ох, пан гетман, какими непотребными словами обзывали вас проклятые послы да еще грозились.
— Сто чертей им и князю в зубы, — выругался Меховецкий.
— Не бранись, гетман, обомнем и пана Русинского, — сказал и побрел своей дорогой.
Меховецкий плюнул вслед:
— Дьявол бы тебя побрал с князем и послами, совсем разбередил душу. Але князь Ружинский царя сыскал?
И еще Меховецкий подумал, что самозванец ни остротой слова, ни лицом, ни осанкой не смахивает на прежнего Дмитрия. Однако гетман о том и виду не подает, а уж как пытали его Заруцкий и другие паны.
На посаде горланили, стреляли из пистолей, веселились шляхтичи. Меховецкий почувствовал, как мороз лезет под кожух. Поежившись, заторопился в избу.
Едва рассвет забрезжил и редкие тусклые огни пробились в оконцах мастерового люда, как от ворот Новодевичьего монастыря отъехали крытые сани и по заснеженным московским улицам покатили через город.
Сопровождаемую двумя монахинями увозили из Москвы в отдаленную мещерскую обитель дворцовую девку Авдотью, дабы не вводила она во искушение государя Василия Ивановича.
По-щенячьи поскуливает Авдотья. Холодно и тоскливо.
Тишь на Москве. Повизгивает санный полоз. С двух сторон зажав Авдотью, сидят молчаливые монахини. Наконец одна из них не выдержала:
— Охолонь, девка. Чать, не на погибель едешь, а грехи замаливать.
Присмирела Авдотья, не понять ее монахиням. Из царского ложа — да в тесную келью. Кусает губы, не взвыть бы, не удариться в голос. А в кремлевской опочивальне страдает Шуйский. Неумолим патриарх.
Сколь ни просил его Василий, даже проститься не позволил.
— Не прелюбодействуй, государь. Княжну Марью не обидь.
Бороденка у Шуйского задралась, вокруг лысины не волос — пух. Бормочет:
— Овдотьюшка, утеха моя.
Вытеснила Авдотья из головы Василия все иные мысли, видеть никого не желает. Утром собрались в Передней бояре, ждут царского выхода, злословят шепотком. Показался Гермоген, затихли бояре, присмирели. А патриарх прошел в царские покои. Василий встретил Гермогена укором:
— Лишил ты меня, патриарх, радости, узником держать намерился.
У Гермогена глаза молнии метнули:
— Царю да по гулящей девке скорбеть? Укроти плоть! Мыслью и делом государю московскому в поднебесье парить. Облачись, предстань перед боярами, они твоя опора и советчики!
Положив ладони на посох, успокоился. Василий поджал губы. Гермоген снова заговорил:
— Внемли, государь, здравому смыслу, отринь искусителя. — Откашлялся. — С Филаретом, митрополитом ростовским, долгую беседу вел. Новый Лжедмитрий тревожит. Помысли о власти, государь.
— Весной пошлю войско на самозванца, очистим окраину от воров и разгульной шляхты, тогда и король сговорчивей будет. — Василий вытер глаза. — Иное покоя не дает — живой Болотников страшит, — покосился на Гермогена.
Патриарх ничего не ответил.
В Переднюю вышли вдвоем. Склонились бояре в поклоне, замерли. Поздоровался Василий, обвел всех долгим взглядом. Заметил князя Хилкова, поманил:
— Борис Ондреич, на думе ответ дай, каким нарядом самозванца бить будем. — Вздохнул. — Ох-хо, нет покоя, бояре, ни мне, ни вам. Разбойника Ивашку Болотникова обротали, самозванец объявился.
— Стараниями Жигмунда, — заметил стольник Хворостинин.
Нагой грудь выпятил:
— Впервой ли недруга бивать? Осилим и нынешнего!
До Каргополя от Москвы напрямую верст пятьсот, а чтобы добраться, и все семьсот. Дорога все больше лесами тянется, места болотистые, коварные.
Везли Болотникова по морозу и снегу за крепким стрелецким караулом через Ярославль, где все еще сидели в остроге Марина Мнишек с отцом и знатными панами, на Белоозеро, а оттуда безвестными архангельскими селами и деревнями, какие по озерам Вожа и Лога тянутся.
В северной стороне Доги, на левом берегу Онеги-реки, и стоит торговый городок Каргополь. Все здесь из дерева — избы и хоромы, церковь и купеческие лавки, стены острога и башни сторожевые.
Сани-розвальни проскрипели мимо пристани, бревенчатых, крытых щепой изб, солевых ссыпок, торга, где в будний день было тихо и безлюдно, въехали в ворота острога. Из караулки выбежали стрельцы, окружили сани. Вскорости появился тюремный начальник, худой, жилистый стрелецкий сотник, сказал, кривляясь:
— С прибытием, разбойничек, — рассмеялся пьяно.
Столкнули стрельцы Болотникова с саней, сняли тяжелые цепи. Кровавили раны на руках, но Иван Исаевич не замечал боли, плечи расправил, головой тряхнул.
— Поглядим, какими хоромами царь Василий меня пожаловал.
В клеть вошел, осмотрелся. Клеть низкая, малая, пол тоже бревенчатый, чтобы арестант подкоп не сделал, а под самым потолком оконце зарешеченное.
— Знатные палаты, от всех щедрот царских, — рассмеялся Болотников.
Стрелец на Ивана Исаевича бердышом замахнулся.
— Смолкни, душегуб.
Болотников посмотрел на него с прищуром.
— Коли я душегуб, то кто в таком разе царь с боярами? Молчишь? Ну так знай, я бояр казнил и жалею — мало. Доведись сызнова начать, вдвойне, втройне изничтожал бы.
Затворилась дубовая дверь — стукнул железный засов. Слышно Ивану Исаевичу, как гомонили стрельцы, видимо, решали, кому первое караулить. Но вот заскрипел снег под ногами, и все стихло.
Потянулись для Болотникова стылые зимние дни и ночи, похожие друг на друга, изнуряющие, долгие.
Трещали от морозов деревья, на бревнах клети толстым слоем лежал серебристый иней, а в бадейке вода покрывалась наледью.
Спозаранку будили Каргополь колокола на звоннице Христовоздвиженского собора, а по воскресеньям и праздникам многоголосо гудел каргопольский торг.
В такие дни появлялся в клети молчаливый тюремщик, сбрасывал охапок поленьев, разжигал печь. Огонь горел недолго, и клеть, не успев прогреться, снова стыла.
— Аль без дров каргопольцы? — простуженно смеялся Болотников.
Тюремщик ответил угрюмо:
— Есть, да не про твою честь. Можно и не топить, дык околеешь по-скорому, вор. А надобно тебе сполна муки отведать.
— И то так, — не переставая улыбаться, промолвил Иван Исаевич. — Сполняй, стрелец, свое дело, авось царь должное воздаст…
Нехотя покидала зима архангельский край. Ворчливо тронулся лед на Онеге, слышно было, как с шорохом таяли снега. Случалось, скупой солнечный луч заглянет в оконце, приласкает Болотникова, просветит душу и снова скроется.
В одиночестве одолевали Ивана Исаевича думы. Вся жизнь вспоминалась ему — и горькое, и радостное. Видел он конные набеги на крымчаков, товарищей по галере, ратников крестьянских, атаманов и есаулов своих, мысленно разговаривал с ними, печалился, что вот не сумел исполнить обещанное люду, дать им волю и землю.
Весной иногда стали выпускать Болотникова из клети. Побродит он по острогу, небом полюбуется, зеленью. Потом присядет на камень, погреется на солнце. Птицы поют, за высокой острожной стеной жизнь, люди ходят, разговаривают…
К лету слухи усилились, будто царь Дмитрий на Москву двинулся. Узнал о том Болотников, верит и не верит. Сам год назад к Москве с крестьянским войском подступал. Однако перестали Ивана Исаевича из клети выпускать, караул усилили. Видать, неспроста…
На Ивана Купалу заглянул к Болотникову боярин Щука, бороду огладил. Сказал, будто вестью радостной поделился: