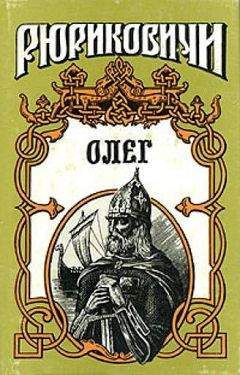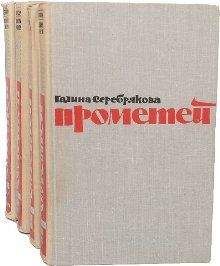Галина Серебрякова - Похищение огня. Книга 2
Исповедуясь перед Николаем I, Бакунин искренне и рьяно осуждал свою былую революционную деятельность. Грехом, преступлением, безумием называл он прекраснейшие годы исканий и борьбы. Он благодарил бога за то, что тот помешал ему вызвать революцию в России и тем самым, как он писал, сделаться извергом и палачом соотечественников.
Сбросив тюремный халат, в одних грубых штанах и туфлях на босу ногу, он в жаркие, душные летние дни и ночи, взлохмаченный, потный, возбужденный, писал свое покаяние, все более увлекаясь и преисполняясь радостью оттого, что «гибельные предприятия, некогда затеянные против Государя и родины, остались неосуществленными».
Он писал уже не только о себе. Имена его друга поэта Гервега, бесстрашного патриарха польской революции Лeлевеля и многих других появились на страницах пылкой исповеди.
«…клянусь Вам, что ни с одним русским, ни тогда, ни потом, я не находился в политических отношениях и не имел ни с одним даже и тени политической связи ни лицом к лицу, ни через третьяго человека, ни перепискою. Русские приезжие и я жили в совершенно различных сферах: они богато, весело, задавая друг другу пиры, завтраки и обеды, кутили, пили, ходили по театрам и балам — образ жизни, к которому у меня не было ни чрезвычайной склонности, а еще менее средств. Я же жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и со своими внутренними, никогда не удовлетворенными потребностями жизни и действия, и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий. Я не говорю, чтобы я не пробовал никогда, — а именно начиная с 1846-го года — обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но ни одна попытка моя не имела успеха; они слушали меня с усмешкой, называли меня чудаком, так что после нескольких тщетных усилий я совсем отказался от их обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что, видя мою нищету, они мне иногда, и то весьма изредка, помогали…»
Много дней и ночей писал Бакунин свои признания. Был вечер. Тюремный надзиратель подлил масла в фонарь и поставил его на плохо обструганный потемневший стол, заваленный кипою исписанной и чистой бумаги. Бакунин встал и принялся ходить по узкой и зловонной камере. Странная усмешка то появлялась, то исчезала с его лица, которое в прежние годы всегда вызывало двойственное впечатление: одни считали это лицо красивым, другие — отталкивающим. Он думал о родном Премухине, отцовском имении, где провел детство и надеялся скоро найти душевное отдохновение. Но более всего о сестре Татьяне. Необычно, греховно любил он ее, предпочитая всем остальным женщинам.
«Не знаю, как назвать мое чувство к Танюше, — думал он, мечтая о возможности скорой встречи, — но оно из тех, что испытывали, верно, греческие боги, сочетавшиеся браком даже с сестрами и матерями. Ревность ко всем, кто ей нравился, изглодала всю мою душу, чуть не рассорила навек с Виссарионом Белинским. Эта страсть опустошила мое сердце, и я не мог больше никого любить. Привязанность Лизы только бесила меня».
Потом Бакунин вернулся к «Исповеди». Он писал о последних месяцах пребывания за границей, когда возмечтал один объединить славян под главенством России.
«Разве уже тогда я не любил своего царя?» — вспомнил он и пожалел о том, что не решился в то время довериться ему.
«Я вздумал вдруг писать к Вам, Государь! — продолжал исповедоваться Бакунин. — И начал было письмо; оно также содержало род исповеди, более самолюбивой, фразистой, чем та, которую теперь пишу — я тогда был на свободе и не научен еще опытом, — но, впрочем, довольно искренней и сердечной: я каялся в своих грехах; молил о прощении; потом, сделав несколько натянутый и напыщенный обзор тогдашнего положения славянских народов, молил Вас, Государь, во имя всех утесненных славян, прийти им на помощь, взять их под свое могучее покровительство, быть их спасителем, их отцом, и, объявив себя царем всех славян, водрузить, наконец, славянское знамя в Восточной Европе на страх немцам и всем прочим притеснителям и врагам славянского племени! Письмо было многословное и длинное, фантастическое, необдуманное, но написанное с жаром и от души; оно заключало в себе много смешного, нелепого, но также и много истинного, одним словом — было верным изображением моего душевного беспорядка и тех бесчисленных противоречий, которые волновали тогда мой ум.
Я разорвал письмо это и сжег его, не докончив. Я опомнился и подумал, что Вам, Государь, покажется необыкновенно как смешно и дерзко, что я, подданный Вашего Императорского Величества, еще же не простой подданный, а государственный преступник, осмелился писать Вам, и писать, не ограничиваясь мольбою о прощении, но дерзая подавать Вам советы, уговаривая Вас на изменение Вашей политики!.. Я сказал себе, что письмо мое, оставшись без всякой пользы, только скомпрометирует меня в глазах демократов, которые не равно могли бы узнать о моей неудачной, странной, совсем не демократической попытке…»
Мысли обгоняли перо. Внезапно перед узником встало лицо Маркса. Жгучая ненависть к нему, вызвав удушье, заставила Бакунина прекратить работу. Он лег на койку, вперив жесткий, пустой взгляд в грязный потолок. Всегда Маркс, этот загадочный своей несокрушимостью исполин с всевидящим горящим взором и саркастической улыбкой, вставал на его пути. Вот и сейчас в тюремной камере проклятая память вызвала его образ как убийственный упрек.
— Все равно все погибло. Июньские дни в Париже стали роком для революции. Она невоскресима, — шептал Бакунин. — Сколько бы Маркс и все коммунисты ни старались, ни боролись, они обанкротились…
Злобная, мстительная радость охватила Бакунина. «Я переживу этих людей и их коммунистический бред…» Но Маркс снова и снова вставал в разгоряченном мозгу узника. Бакунин вдруг понял, что только одного отныне боится, — чтобы этот могучий немец когда-нибудь не узнал о его «Исповеди». Схватив дрожащими пальцами ручку и обмакнув перо в густые темные чернила, он написал русскому царю:
«Д-р Маркс, один из предводителей немецких коммунистов в Брюсселе, возненавидевший меня более других за то, что я не захотел быть принужденным посетителем их обществ и собраний, был в это время редактором «Новой Рейнской газеты», выходившей в Кёльне. Он первый напечатал корреспонденцию из Парижа, в которой меня упрекали, что будто бы я своими доносами погубил поляков, а так как «Новая Рейнская газета» была любимым чтением немецких демократов, то все вдруг и везде, и уже громко заговорили о моем мнимом предательстве».
Еще несколько дней и ночей неотрывно письменно исповедовался Бакунин. Был нестерпимо жаркий августовский день, когда он дописал последние строки:
«Я благословляю провидение, освободившее меня из рук немцев для того, чтобы предать меня в отеческие руки Вашего Императорского Величества.
Потеряв право называть себя верноподданным Вашего Императорского Величества, подписываюсь от искреннего сердца
Кающийся грешник Михаил Бакунин».
В августе «Исповедь» была передана Николаю I. С карандашом в руках, делая пометки на полях, внимательно читал ее царь. 27 сентября он вызвал генерал-лейтенанта Дубельта, к которому особенно благоволил, и, передавая «Исповедь», сказал ему, глядя в упор выпуклыми белесыми, как у щуки, глазами:
— Передайте великому князю Александру, пусть почитает. Что до Бакунина, повинную голову меч не сечет. Уповаю на господа, что с годами сей путаник и смутьян в надежной крепостной тюрьме образумится, искупит свои прегрешения великим терпением. Свидание с отцом и сестрой я ему разрешаю, конечно в присутствии Набокова.
Дубельт прочел собственноручную надпись Николая на первом листе «Исповеди». Она относилась к наследнику престола: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно».
Спустя несколько дней Дубельт, один из влиятельнейших людей в государстве, человек с сухощавым, бездушным, хитрым лицом, на докладе у царя снова упомянул об «Исповеди».
— Ныне кающийся грешник Бакунин правильно судит о коммунизме, как изволили о том вы, ваше величество, отметить на полях покаянной его рукописи, — заговорил управляющий Третьим отделением, почтительно наклоняясь к столу, за которым сидел Николай.
Царь посмотрел выпуклыми рыбьими глазами на новенький голубой мундир с золотыми нашивками, аксельбантами и шнурами рьяного гонителя революционеров и сказал с подчеркнутым безразличием:
— Кому, как но Бакунину, знать в совершенстве сей предмет? Пусть, однако, господь просветит его смутную Душу.
— Ваше величество, — оживился Дубельт, — этот преступник пишет о Западной Европе, что дряхлость и разврат, происходящие от безверия, приведут ее к гибели. Все шарлатанят и обманывают там друг друга. Привилегированные классы держатся у власти эгоизмом и привычкою. Сие есть слабая препона против возможной бури. И что хуже всего, посреди всеобщего гниения одна только непросвещенная, грубая чернь сохраняет силу. Она особенно опасна, потому что является оплотом чудовищнейшей из идей — коммунизма. Беспрестанный крик и страх перед коммунистической ересью, по мнению преступника Бакунина, будто бы помогли ее распространению более, чем пропаганда тайных и явных коммунистических обществ.