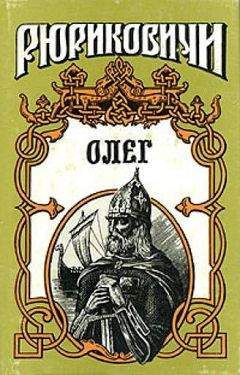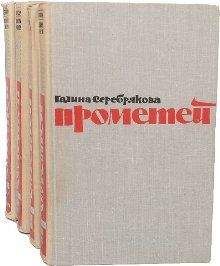Галина Серебрякова - Похищение огня. Книга 2
Если, несмотря на полное отсутствие убедительных судебных доказательств, тем не менее был вынесен обвинительный приговор, то это стало возможным — даже при подобном составе присяжных — лишь в результате того, что новый уголовный кодекс был применен как закон, имеющий якобы обратную силу… Кроме того, кёльнский процесс по своей продолжительности и по тем необычайным методам, к которым прибегла сторона, возбудившая обвинение, принял характер такого громкого процесса, что вынесение оправдательного приговора было бы равносильно осуждению правительства…»
Маркс писал 19 ноября 1852 года в Манчестер Энгельсу:
«В прошлую среду Союз, по моему предложению, распустил себя и объявил несвоевременным существование Союза также на континенте. Впрочем, на континенте он фактически уже не существует… Я пишу литографированную корреспонденцию с подробным изложением подлостей, совершенных полицией [ «Разоблачения о кёльнском процессе коммунистов»], а для Америки — воззвание о пожертвованиях в пользу арестованных и их семей. Кассиром является Фрейлиграт. Подписано всеми нашими».
Рейнское судилище продолжало волновать Маркса, и он написал о нем книгу «Разоблачения о кёльнском процессе коммунистов».
«В лице обвиняемых перед господствующими классами, представленными судом присяжных, стоял безоружный революционный пролетариат; обвиняемые были, следовательно, заранее осуждены уже потому, что они предстали перед этим судом… Если что и могло на один момент поколебать буржуазную совесть присяжных, как оно поколебало общественное мнение, то это — обнаженная до конца правительственная интрига, растленность прусского правительства, которая раскрылась перед их глазами. Но если прусское правительство применяет по отношению к обвиняемым столь гнусные и одновременно столь рискованные методы, — сказали себе присяжные, — если оно, так сказать, поставило на карту свою европейскую репутацию, в таком случае обвиняемые, как бы ни была мала их партия, должно быть, чертовски опасны, во всяком случае их учение, должно быть, представляет большую силу. Правительство нарушило все законы уголовного кодекса, чтобы защитить нас от этого преступного чудовища.
…Рейнское дворянство и рейнская буржуазия своим вердиктом: «виновен», присоединили свой голос к воплю, который издавала французская буржуазия после 2 декабря: «Только воровство может еще спасти собственность, клятвопреступление — религию, незаконнорожденность — семью, беспорядок — порядок!»
Весь государственный аппарат Франции проституировался. И все же ни одно учреждение не было так глубоко проституировано, как французские суды и присяжные. Превзойдем же французских присяжных и судей, — воскликнули присяжные и суд в Кёльне… Превзойдем же присяжных государственного переворота 2 декабря».
В то же время, когда Маркс работал над «Разоблачениями о кёльнском процессе коммунистов», прусский министр внутренних дел с напряженным вниманием просматривал каждое новое донесение своих лондонских агентов.
Особая папка «Дело королевского полицейского управления в Берлине о литераторе докторе Карле Марксе, вожде коммунистов» непрерывно пополнялась и становилась все более громоздкой.
«Вчера вечером я был у Маркса, — сообщалось в одном из донесений от ноября 1853 года, — и застал его за работой над составлением очень подробного резюме дебатов кёльнского процесса: это — своего рода критическое освещение с юридической и политической точек зрения; само собой разумеется, что при этом сильно достается правительству и полиции… Вам известно его гениальное перо, и мне нечего говорить вам, что этот памфлет будет шедевром и привлечет к себе в сильной мере внимание масс».
Как-то на Дин-стрит несколько месяцев спустя после кёльнского процесса под вечер в гости к Марксу пришел Либкнехт с молодой женой. У Маркса весь день адски болела голова, но, выпив чашку кофе, он почувствовал себя лучше и присел к общему столу.
Либкнехт сообщил, что Бартелеми вызвал на дуэль Ледрю-Роллена, но тот отказался стреляться. «Я заставлю вас принять вызов испытанными средствами «плевком в лицо, пощечиной, публичным оскорблением», — отвечал строптивый дуэлянт. Ледрю-Роллен собирается избить его палкой и обратиться в суд за защитой.
— Этот сумасброд, по-видимому, поставил себе целью стать Ринальдо-Ринальдини эмиграции. Бывает же и такого рода честолюбие, — заметил Карл.
Разговор перешел на Виллиха, который прибыл в Нью-Йорк, где его друг Вейтлинг устроил по этому случаю банкет.
— Я уже слыхал об этом, — оживился Карл. — Обвязав себя огромным красным шарфом, папаша Виллих закатил длиннейший спич о том, что хлеб дороже свободы, затем Вейтлинг поднес этому герою саблю и выступил с речью, в которой доказывал, что первым коммунистом был Иисус Христос, а его прямым преемником не кто иной, как он сам, знаменитейший Вильгельм Вейтлинг.
Все рассмеялись.
— Знаете ли вы, доктор Маркс, что Шаппер ищет к вам путей? Он понял, что ошибался и залез в грязь по уши, — сказал Либкнехт.
— Это хорошо, — обрадовался Карл, — это очень хорошо. Бедой многих эмигрантов являются иллюзии. Они, как мираж в пустыне, сбивают путников с пути и заводят в безводные пески. Мне всегда казалось, что Шаппер разберется во всем сам и найдет нас. Не случайно он был настоящим человеком, другом Иосифа Молля, Генриха Бауэра, В нем нет подлости, иногда его, впрочем, охватывало этакое смутное томление нетерпеливой души, свойственное и неплохим людям.
— Карл наиболее требователен к тем, кого особенно ценит и уважает, — заметила Женни, — и гораздо снисходительнее к безразличным ему людям.
— Вот уж поистине про Карла можно сказать словами Евангелия: «Кого люблю, того изобличаю и наказываю». Он и ко мне бывает придирчив. А я не сержусь и не боюсь его вовсе, — сказала, вызвав всеобщий смех, Ленхен, убиравшая посуду со стола.
— Ну, ты-то уж доподлинно верховная власть в доме, диктатор. Не я тебя, а ты меня всегда изобличаешь, — продолжал смеяться Карл.
Приближались рождественские праздники. Их, как никогда доныне, радостно ждали в семье Маркса. Большую елку, спрятанную до времени от пытливых детских глаз, украшал с веселым рвением Малыш — Эрнст Дронке. Он взобрался на высокий табурет, чтобы водрузить на ветках бумажные флажки, звезды, яркие украшения и золоченые орехи, которые ему подавала Ленхен. Куклы, кухонная посуда, ружья, барабаны и трубы лежали под елкой среди пакетиков с фруктами и конфетами. Наконец все было готово и елка освещена разноцветными свечками. Карл торжественно позвонил в колокольчик и широко распахнул дверь, приглашая оторопевших от счастья малышей. Лаура стремительно бросилась вперед со свойственной ей решительностью, Женни и Муш растерянно застыли на месте. То, что они увидели, казалось сказочным. Они едва узнавали комнату, заставленную старой пыльной мебелью. Сверкающая елка все в ней затмила.
Глава третья
Русские дела
Граф Орлов, брезгливо оглядывая тюремную камеру, поднес к большому, самоуверенно вздернутому носу надушенную перчатку и сказал, отчеканивая каждое слово:
— Его императорское величество желает, чтобы вы исповедались перед ним во всех своих прегрешениях. — Затем, понизив голос, шеф жандармов добавил: — «Пусть сей блудный сын, — сказал государь, — пишет ко мне так, как ежели бы он говорил со своим духовным отцом».
Бакунин ответил, не раздумывая:
— Передайте государю, что слова его потрясли меня до глубины души, что они взволновали мое сердце.
Орлов, не взглянув больше на узника, покинул камеру. За ним гуськом вышли комендант Петропавловской крепости и два жандармских ротмистра. Дверь захлопнулась, тяжело лег засов, и проскрипел ключ.
Ошеломленный неожиданным посещением, Бакунин прижался густо обросшей щекой к каменной стене, но мгновенно отпрянул. Ледяным могильным холодом повеяло на него. Гробовая тишина царила вокруг. Сжав голову исхудавшими прозрачно-желтыми руками, он уткнулся в колючую, набитую соломой, подушку.
Более двух лет Бакунин находился в одиночном заключении. Где-то за стенами крепостных тюрем неудержимо неслась многоликая, многоголосая жизнь. Но он был заживо похоронен. Гряда камня и цепкие прутья решеток отделяли его от таких же обреченных. Время перестало существовать и неслось с невероятной быстротой, лишенное каких бы то ни было примет и событий. Только память, только мозг — эти необъятные сокровищницы и тайники — помогали ему не сойти с ума, но они же рождали непреодолимый страх.
В последнее время Бакунин искал путей спасения. Жажда жизни усиливалась одновременно с мыслью о приближении небытия.
Дважды приговоренный в чужих странах к казни, он был выдан России, чтобы быть повешенным на плацу Петропавловской крепости.