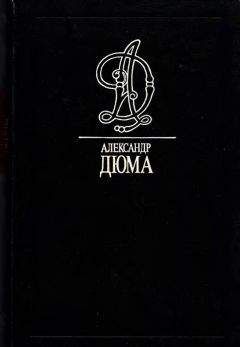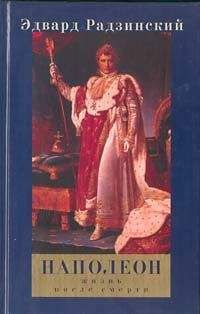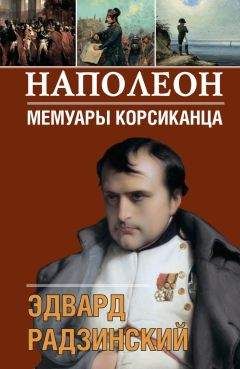Петр Краснов - Опавшие листья
В четверг Andre отпевали в Артиллерийской церкви. Белый гроб был покрыт венками и ветками черемухи и сирени. В нем, глубоко провалившись на дно, худой и как бы ссохшийся, в синем гимназическом мундире, лежал Andre. Белое лицо с обострившимся носом было спокойно и не выражало ничего. В душном воздухе жаркого летнего дня толклись с жужжанием мухи, и к сладкому запаху сирени и ладана нет-нет примешивался тяжелый, душный, противный, пресный запах трупа и карболки. И было непонятно, откуда он шел. Восковые руки были сложены на груди, и странны и страшны были серые тени между пальцев. Смерть во всей ее ужасной тайне стояла перед детьми, и, они каждый по-своему относились к ней.
Ипполит с Лизой стояли подальше и старались не глядеть на Andre. Липочка не вставала с колен, колотилась лбом об пол и плакала горючими слезами. Федя широко раскрытыми глазами глядел в лицо покойника, оглядывая церковь, и думал: "Видит ли его теперь душа Andre, знает или нет его помыслы? И где она? В жаркой ли струе нагретого пламенем свечей воздуха, уносящегося кверху, в волнах ли клубящегося ладана?.. Или это она птичкой пролетела в окно, забилась у стекла и с радостным чириканьем улетела". Федя именно теперь, когда лицом к лицу стоял перед тайной смерти, видел белое лицо брата, ко всему равнодушное, и угадывал ужасное значение противного запаха, от которого долго потом не мог отделаться, именно теперь верил глубоко в то, что говорила няня Клуша, и считал, что все ученые мира не знают того, что знает няня и о чем так благостно, покойно говорит небольшой хор, поющий на клиросе… "И вечного огня исхити".
Он уже не сомневался, как сомневался в Троицу, но верил твердо, что где-то есть такое место "светле, покойне, откуда же отбеже болезни, печали и воздыхания". Где? Он не знал. Не знали этого и ученые, но такое место было, и где оно, знали только няня Клуша да мама.
Они говорили просто: "У Бога!".
Федя тщательно крестился, горячо молился, становился на колени и не спускал глаз с лица Andre. Он знал, что душа его брата видит его, и ему хотелось, чтобы душа эта осталась довольна им.
Кругом гроба толпилась небольшая группа родственников и знакомых. Несколько гимназистов, Бродович с Соней стояли поодаль.
По углам церкви стояли любопытные дачники, какие-то старухи и старики. У паперти ожидали дроги, запряженные парою лошадей в черных попонах, с намордниками и капорами, закрывавшими уши. Лошади стояли понуро, поводили ушами и точно слушали, что делается в церкви, и ждали, когда застучит молоток, заколачивая крышку гроба.
Когда пожилой человек в черном сюртуке накрыл крышкою гроб и вбил длинные гвозди в его края, Михаил Павлович, дядя Володя, Чермоев, Филицкий, Федя и Бродович подошли, взялись за серебряные ручки и, нагибаясь, неловко, не в ногу, ступая вразброд, понесли гроб из церкви и установили на дрогах.
Варвара Сергеевна шла, низко опустив голову и часто крестясь за гробом. Священник с крестом торопливо прошел вперед и за ним, толкаясь, выходили пестро одетые певчие. Радостный летний день, роща сосен напротив храма, чириканье птиц, густая стена высокой акации в желтых бутонах среди нежной зелени; очарование бледного глубокого неба с мягко плывущими перистыми розовато-лиловыми облаками, звуки трубы, на которой кто-то играл неподалеку упражнения, несколько дачниц и детей в светлых платьях и звонкие дребезжащие крики разносчицы на улице "Нитки, тесемки, чулки, шнурки, бумаги чулошнаи" так сильно говорили о жизни, о радости жить под этим небом, что гроб с покойником, колесница, лошади в черных капорах казались совсем ненужными, и хотелось как можно скорее отделаться от них.
И было понятно Феде, что священник торопливо читал молитвы над глубокой ямой, вырытой в песке, проникновенно, грустно, но с каким-то облегчением взяв небольшим совочком с поданного ему блюда песок, говорил: "Земля бо еси и в землю отыдеши", а хор пел "Вечная память", и все подходили и, толкаясь, сыпали песок, жестко, комьями ударявший в крышку гроба. А потом торопливо стучали лопатами мужики в белых рубахах, скрипел песок о железо, тяжело осыпалась земля и один из могильщиков прилаживал высокий, крашенный масляной краской белый крест.
В кустах среди могил перелетали и пели птицы. Шмели и пчелы озабоченно кружились в воздухе, нищие стояли, ожидая подачек, и, как ни старалась смерть доказать, что это ее царство, кругом шла жизнь, и жизнь была сильнее смерти, и смерть никак не могла ее осилить.
И это заметил Федя.
Andre, его брат, умер… Но ничего от этого не изменилось на земле, все оставалось по-прежнему. И много умрет таких, как Andre, умрет и Федя, но мир останется, потому что не Andre, не Федя, не человек вообще с его разумом создали этот мир, но создал его Господь Бог.
Это для Феди теперь стало неопровержимо ясным.
Часть вторая
I
Сороковой день после кончины Andre приходился на день рождения Варвары Сергеевны. Должны были приехать гости: дядя Володя с тетей Лени и Фалицкий — к обеду, в четыре часа. Варвара Сергеевна утром отдала Аннушке все распоряжения об обеде, а сама с Федей, еще когда все спали, поехала на кладбище.
Шестой день подряд лил косой холодный дождь, стучал в окна дачи и наполнял ее тоскою и сыростью.
Гости собрались, а Варвара Сергеевна все еще не возвращалась. В столовой, выходившей окнами на балкон, на котором безнадежно висели набухшие полотнища холщовых занавесей, было так темно, что на ломберном столе, стоявшем в углу, зажгли свечи.
— А не сыграть ли нам, господа, по маленькой в ожидании, — сказал Михаил Павлович, распечатывая колоду. — И куда мать запропастилась, понять не могу. В три часа дилижанс пришел, давно бы здесь должна была быть, а ее нету.
Он подошел к накрытому столу, взял графинчик водки и, наливая дрожащей рукою рюмку, сказал:
— Иван Сигизмундович, прикажешь?.. Тебе, Володя, не предлагаю, знаю — откажешься? Ну какой ты военный!..
Капитан!.. А, капитан!.. а водки не пьет… Помнишь: "Как я рад, капитан, что я вас увидел, вашей роты подпоручик дочь мою обидел"…
— Шш! шш! — замахал на него руками дядя Володя, — скажешь тоже!.. Профессор!..
После смерти Andre Михаил Павлович стал пить. Он пил не так, как пьют мужики, с горя ли, с радости ли, по праздникам напивающиеся до бесчувствия, а пил умеренно, методично, по две, по три рюмки за завтраком и рюмки по четыре за обедом… Он заходил в буфеты и трактиры, едучи на службу, молча тыкал пальцем на рюмку, выпивал одну, другую, закусывал чем-нибудь, бросал на стойку мелочь и уходил. Он никогда не был пьян, но всегда находился в повышенном состоянии духа и легко раздражался. Точно глушил в себе какую-то глубокую тяжелую мысль и не давал ей подняться со дна души. И только начинала она грызть его где-то, в далеком уголке его существа, он опрокидывал рюмку водки, мутнели глаза, краснели веки, и мысль исчезала. Он стал раздраженно спорить, не слушая собеседника, по вечерам либеральничал в клубе, ругая правительство и классическое образование, и имел уже неприятности по службе. Он обрюзг и опустился, за эти сорок дней он постарел на несколько лет, лицо его стало красным, веки опухли, губы растолстели, и над ними неопрятно висели сильно поседевшие усы.
— Разве по единой, холодно у вас очень, — сказал Фалицкий, принимая расплесканную в дрожащей руке Михаила Павловича рюмку.
За карты сели в пальто. Дядя Володя — с поднятым воротником. В углу комнаты текло, диван был отставлен, и на его месте стоял цинковый таз. В него звонко шлепала вода.
— Надоела эта дача,
Просто хоть сойди с ума,
Вместо красного-то лета
Тут зеленая зима.
Холод, стужа, непогода,
По окнам струей течет, —
декламировал дядя Володя.
— Тебе сдавать, — сказал он Михаилу Павловичу.
— Капитан… поэт! — фыркнул Михаил Павлович, — счастливы вы, Магдалина Карловна, что у вас нет детей.
— Ну что уж… всяко бывает, — сказал Фалицкий.
— Бывает… бывает, — проворчал Михаил Павлович. — Бывает, что и медведь летает… Вы что объявили?
— Семь червей, — сказала тетя Лени.
— Я пас… Да… Болезнь века… века… Воли к жизни нет…
— Тебе ходить, — сказал дядя Володя.
— Пас… А откуда взяться воле? Ничего… Ни Бога, ни любви, ни романтики, ни волнений… Одна латинская грамматика… Очень уж просто все стало… Мы мечтали… Они?.. все знают…
— То, что было, не вернешь! — сказал дядя Володя.
— Знаю… А только… Гадко!.. Понимаешь — гадко. Эгоизм… Я, мне, для меня… Все — я, а другие, близкие. А, черт… им все наплевать. И отечество им звук пустой… И слава… Какая, к черту, слава, если равенство… Ты понимаешь это?.. Магдалина Карловна, вы это понимаете, что Пушкин равен сапожнику, а Суворов — пехотному ефрейтору… К черту — Вандомские колонны… А ведь каждому мечтать-то хочется. Каждый Вольтером или Наполеоном себя мнит. Памятника-то каждому хочется, а если поверить в это равенство, так не будет памятника-то! А? И кто мечтал, кто возносился, тому что останется?.. Или отвергнуть равенство, религию свою отвергнуть, или уйти… Вот она какая штука-то… Жуткая штука новая-то теория… Где дети? — спросил Михаил Павлович у вошедшей няни Клуши.