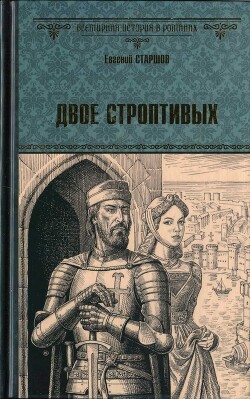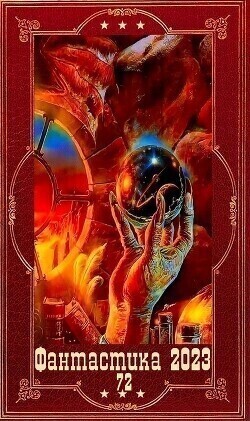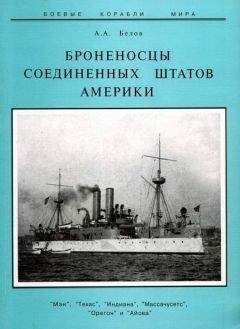Английский раб султана - Старшов Евгений
— Кто знает, — задумчиво произнес Эзра. — Думаю, он сам когда-нибудь это откроет. Кстати, раз уж мы его вспомнили, почтенный Гиязеддин справлялся о твоем здоровье.
Итак, жизнь более-менее налаживалась. Пребывание в доме лекаря дало Торнвиллю самое главное — отдых, и не только физический, но и отдых истерзанной душе.
Нога, по словам врача, вроде бы срасталась хорошо, и это радовало. Грешным делом Лео украл обнаруженный им без присмотра хирургический нож и берег его, как зеницу ока — мало ли, эта вещь всегда сгодится при такой-то жизни.
Шли дни, недели. Наконец явился сам Гиязеддин. Осмотрев Торнвилля, он довольно улыбнулся и произнес:
— Аллах велик, ты поправляешься. По крайней мере, путешествие ты перенесешь. Мои дела в этом городе завершены, и надо отправляться.
— Я благодарю тебя, почтенный Гиязеддин, за то участие, что ты принял в моей несчастной судьбе, — сказал Лео. — Но позволь со всем уважением осведомиться: почему? Я же знаю, что недостоин такого отношения, но раз оно есть — значит, чего-то я не знаю или не понимаю. А ничто не гнетет человека так, как неизвестность.
На глазах улема сверкнули слезы. Он положил руку на плечо Лео и сказал чуть дрогнувшим голосом:
— Мальчик мой… Позволь мне так называть тебя, поскольку для нас, стариков, все вы — дети, и всех вас жалко. Я сейчас скажу вещь, которую мне очень тяжело сказать, и думаю, еще нескоро придется говорить об этом вновь… Но сейчас я должен. Ты очень похож на моего сына… Его мать была из Фарангистана [68] и передала ему такие же, как у тебя, волосы и глаза; но и лицом, и статью ты очень на него похож…
Лео был удивлен. Он, уже давно перебрав в уме все возможности, решил, что старик выкупил его лишь затем, чтобы обратить в ислам. А впрочем, даже сейчас не следовало исключать того, что Гиязеддин попробует это сделать.
— Моего мальчика более нет… — меж тем продолжал старик. — Он погиб на службе великого падишаха… Аллах предопределил это, конечно, как и все происходящее в этом мире, своим первотворенным каламом [69], когда мой сын не пошел по моим следам, как это вообще принято у нас, османов, а выбрал военное дело, оставив и отчий дом, и свою прелестную Шекер-Мемели… Но какой отец, понимая все прекрасно умом, смирится сердцем с такой бедой! Я еще надеялся, что все не так, для того и приехал сюда, даже деньги собрал на случай выкупа… Мне показали его могилу. Идя оттуда мимо цитадели, я, волею Аллаха, застал твое избиение… Выкупные деньги были мне уже не нужны, а поскольку милостыня может помочь моему заблудшему сыну перейти через острый мост Сират, то ради его души я и спас ими тебя. Выкуп пленника — тоже милостыня.
"А в чем же подвох? — подумал Лео. — Я все-таки должен поверить в Аллаха, чтобы сын Гиязеддина наверняка оказался в раю?"
По счастью, этого не требовалось.
— Конечно, я должен был бы быть совершенным до конца. — Старик чуть смутился. — И отпустить тебя, но я не могу этого сделать. Пока, по крайней мере. Наивно думать, что ты заменишь мне сына, мы не знаем друг друга — но на то нам и дано время и общение, чтобы узнать друг друга лучше. Пока я вижу, что ты учтив, неплохо знаешь язык; твои старые раны и случай на рынке показывают, что ты храбр и не потерял человеческого достоинства даже в тягчайших обстоятельствах. Короче, я беру тебя с собой, под Денизли. Ты не раб, но и не свободен. Ты гость — и пленник. Постигни это умом или душой — не знаю, что у тебя дойдет до истины быстрее, и постарайся, хотя бы из малой благодарности ко мне, не бежать — твоя нога и здоровье все равно не позволят тебе это сделать… пока, по крайней мере, так что, повторяю, едем в мой дом. Как тебя зовут?
Лео, очень обрадованный, что его хотя бы не будут обращать в ислам, охотно представился:
— Лео из рода Торнвиллей, мой предок Гуго, "черный барон", был сподвижником английского короля Генриха Первого почти четыре века назад.
— Почетно знать своих предков. Что означает твое имя?
— Это лев — арслан.
— Тогда я так и буду звать тебя. Арслан! Это имя и полагается благородному и могучему батыру… Итак, собирайся — и в путь!
Лео, хоть и обрадованный, пребывал в растерянности. Судьба явно благоволила ему — это после рынка-το рабов! Но что в самом деле делать? Ну, поехать — он поедет, у него выбора-то сейчас, с таким копытом, и правда нет, а потом-то что? Не может же он и вправду жить где-то в глуби Турции при этом наивном, благородном, убитом горем, добром старике, как поганая приживалка, нахлебник-паразит! Где ж такое видано! Посему он не удержался и прямо сказал:
— Боюсь прогневать моего достопочтенного благодетеля, но хотелось бы сразу сказать, потому что иначе… иначе будет просто подло и нечестно. Я не могу и не хочу пользоваться тем чудесным сходством, которое ты нашел во мне со своим сыном, чтобы въехать нахлебником в твой высокий дом. И кроме того, раненого льва можно опутать тенетами, но, когда он поправится, разве сможет он добровольно остаться в неволе? Или он уйдет, или нужна железная клетка, чтоб удержать его. Я хочу, чтобы достопочтенный Гиязеддин подумал об этом.
Но старик только разрыдался, бросившись юноше на грудь:
— Иных слов я не ожидал! Ты оправдал — да нет, превзошел мои ожидания, благородный Арслан! Аллах создал тебя честным и благородным, и теперь я в этом еще больше убедился. Нет, решительно — ты едешь со мной, а там — посмотрим. Ты не станешь нахлебником — работы у меня в хозяйстве хватит с избытком, и то, может, ты будешь умудрен Аллахом и станешь не просто работать, но руководить хозяйством. А как удержать льва — посмотрим. Может, он и сам не захочет уйти… — загадочно прибавил богослов.
Воистину, нельзя переубедить отчаявшегося человека, вдохновенно возведшего себе воздушный замок. Оставалось одно:
— Уважаемый, но ведь главное — я христианин и веры не сменю. Более полутора лет как я в плену, и пока, как ни старались, к отречению меня не вынудили. Нет, меня не пытали, но, думаю, и этим бы ничего не достигли. Надо знать, каково класть камни крепости под палящим солнцем или лить пушки при такой жаре, когда солнцепек кажется вечерней прохладой.
— Я не буду настаивать — постараюсь, по крайней мере. Я ведь богослов, человек книги, мудрого и убедительного слова. Убеждать — мое призвание. А вера из-под палки, по моему разумению, это не вера, а насилие над ней.
Спорить было бесполезно.
Распрощавшись с Эзрой и получив от него соответствующие указания, как беречь и развивать ногу, Торнвилль взгромоздился на мула и влился в предсказанный врачом обоз Гиязеддина.
Свита богослова оказалась немаленькая. В ней были и разные слуги, и охранники, без которых любое перемещение по Малой Азии, кишащей кочевниками, могло бы закончиться для уважаемого человека крупной неприятностью, и еще невесть какой народ, который трудно отнести к первым двум категориям.
Путь, по которому отправилась вся эта орда, вел на северо-запад, в Бурдур, а уже оттуда — в Денизли. Впереди суровыми громадами высились Таврские горы, но путь к ним из Анталии пока что вел по плодородной равнине, вот-вот готовой расцвести всеми красками природы в предвосхищении весны. Кругом были миртовые и лавровые кусты, островерхие кипарисы и приземистые кучерявые оливы. Впереди величественно белел снежной шапкой местный Олимп — один из нескольких [70].
Потом начался подъем в горы, делавшийся все круче и круче, но путь еще вел по горным долинам, заросшим кустарником. Там с наступлением темноты и последним свершенным намазом и заночевали.
То ли от тряски, то ли от холода у Лео страшно заныла нога, и он довольно долго не мог заснуть. Гиязеддин, как оказалось, тоже. Они проговорили чуть не с половину ночи, рассказывая каждый о себе и расспрашивая собеседника. Торнвилль никак не мог отделаться от мысли, что турок складом ума и широтой взглядов и познаний весьма и весьма напоминает ему дядю Арчи, но он все же счел недостойным расчувствоваться и сказать это турку — тот и так души в нем не чает, причем совершенно незаслуженно, к чему ж еще подогревать этот пыл?