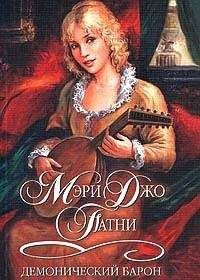Франтишек Кубка - Улыбка и слезы Палечка
Вот что устроил мой Пульчетто! Это было год тому назад, в начале занятий. И так всегда: что он захочет, то и осуществляет, что думает, то и говорит; кто его не слушается — того заставит, кто сопротивляется — того наказывает. И притом это такой милый, добрый юноша, что и ты расцеловал бы его, мой усатый друг. Если б только он захотел. Потому что поцелуев этих он имел бы полную меру, так что еле унести. Если б захотел.
Девушки за него дерутся, парни им восхищаются, профессора боятся его ума.
Дино Конти хотел отомстить, стал было возражать против его зачисления в правоведы. Но потом уступил, как только рыцарь Палечек одними глазами показал ему на площадь, где еще стояло сооружение канатоходца. Знаток Грациановых указов[77] на время притих, рассчитывая покарать проказника-студента как-нибудь иначе. Наступят диспуты, экзамены, и на них толстый Дино будет опять неограниченным властелином.
Так что Пульчетто мой поступил в Академию с боем. И в этом бою, по крайней мере на первом году своего пребывания у нас, одержал славную победу.
Вы помните, дорогой друг, еще со студенческих времен о славных диспутах студентов-медиков, где тысячи и тысячи раз подряд всуе упоминалось имя Галена[78], в то время как больного по своему усмотрению потрошили брадобреи. Помните, как среди прочих аргументов решающим нередко был кулак и как дванадесять языков Академии оспаривали друг у друга честь оставить за собой последнее слово в споре, где логика была важней истины. Милый медик, видел ли ты когда-нибудь у себя на факультете больного человека, рассматривал ли когда-нибудь его жалкие внутренности? Но зато в ученых спорах ты так разъяснял Галена, что от него, бывало, косточки не останется. Так вот, все это продолжается — и не только в искусствах, медицине и теологии, но и у юристов или правоведов, куда записался мой Пульчетто.
У нас в Падуе преподается не только право каноническое, но более или менее тайно и римское, которое папа Гонорий[79] еще в 1219 году запретил в Париже. Но мой Палечек изучил Грациана, родом из Болоньи, и императора Юстиниана еще у себя на родине. Кажется, еще Палечек-отец привез к себе домой из Падуи книги, чтением которых через столько лет по-прежнему упивается магистр Дино Конти — в присутствии насмешливо улыбающегося Палечка-сына. Поэтому наш милый еретик из Чехии проглядел только несколько неизвестных ему папских декреталий да соборных эдиктов и таким образом через полгода держал все каноническое право в руках. Магистр Дино раздражал Пульчетто своим способом преподавания. Он не поручает чтение, как многие другие, младшему бакалавру, а читает и в ординарные и в экстраординарные часы всегда сам. Склонившись над книгой, бормочет толстыми губами текст книги, брызгая и кашляя, сплевывая и глотая слова, причем красный язык его поминутно высовывается из беззубого рта. На учеников своих, сидящих уже не на земле, на соломе, а по-новому, за партами, вовсе не смотрит и на разговоры, смех и движение в аудитории не обращает внимания. Каждый делает, что ему нравится. Одни играют в кости, другие вырезывают на партах затейливые рисунки и буквы, многие встают и расхаживают по проходам между скамейками, в углу двое дерутся, самые смелые выходят из аудитории посреди занятий. А Дино читает и читает, так что с лысины его пот катится, словно капли жира.
Рыцарь Палечек, сидя на первой парте, смотрел на читающего. Слушал или нет, неизвестно. Но пристально глядел на магистрову лысину. Удивительно, что после каждой лекции он знал все, что в ней содержалось. И запоминал от слова до слова, наверное, навсегда.
Магистр Дино хотел унизить своего молодого противника, выставить его в смешном виде. Поэтому он назначил темой первого диспута перед рождеством Христовым эдикты Констанцского собора.
В аудитории собралось великое множество студентов, бакалавров, лиценциатов и магистров; спор на соискание звания бакалавра вели венецианец Гвидо Фалькони и немец из Кельна-на-Рейне Ганс Бекер. Само собой ясно, что все немецкое землячество явилось для того, чтоб во время диспута криками и подбадриваниями поддерживать красноречие своего соотечественника. По уставу, Пульчетто мой, как подданный чешского короля, был тоже отнесен к академическим немцам. Но я никогда не видел его приветливо разговаривающим со светловолосыми студентами с берегов Рейна, Дуная и Мозеля, и никто из них никогда не отзывался с сочувствием об этом милом Палечке.
Диспут открыл длинным вступительным словом магистр Конти. Он говорил о правах и обязанностях студентов юридического факультета, о славном Грациане и еще в более славном папе Григории[80]; потом объяснил значение звания бакалавра; наконец пригласил обоих кандидатов изложить свой тезис и приступить к его защите.
Гвидо Фалькони — хороший диалектик и часто ставил немца в тупик, разбирая выдвинутое им положение — по способу факультета искусств — не только с точки зрения существа вопроса, но и с точки зрения грамматической, физической и метафизической. Германские подданные стали на него покрикивать:
— К делу! К делу! Отвечай по категориям!
Но вдруг Ганс Бекер произнес имя Яна Гуса. Кажется, магистр Конти внушил ему сделать это. И немедленно вслед за этим послышалось слово: ересиарх… В тот же миг на кафедре появился мой Пальчетто и, угрожающе подняв руку, объявил:
— Немец, говори по существу и не касайся своими грязными лапами пречистого имени магистра Яна. Говори о соборе похотливых кардиналов, грабителей-пап и клятвопреступника-императора[81]. Этим ты лучше подкрепишь свои тезис!
В аудитории поднялся шум. Магистра Конти в пот ударило. Немец тяжело дышал, стараясь ответить, но не находя слов. Его оппонент Гвидо Фалькони стоял спокойно. Получилось так, что диспут повел Палечек. На мгновенье стало тихо. Тогда магистр Конти, собравшись с духом, объявил:
— Студент Ян Палечек, покинь аудиторию за то, что вмешиваешься в диспут, непрошеный!
Палечек посмотрел на магистра Конти и спокойно ответил:
— Ты лучше сиди себе, магистр. А то пойдешь на четвереньках во двор.
Взрыв хохота. Несколько бакалавров окружило Палечка, встав стеной между ним и кафедрой магистра Конти. Другие пошли между парт, строго, но дружески успокаивая расходившихся студентов.
Кандидат Ганс Бекер, чувствуя, что сила на его стороне, с коварной улыбкой спросил магистра Конти, позволит ли он ответить на аргумент присутствующего здесь студента Яна Палечка, по прозванию Джованни Пульчетто.
Аудитория загудела согласием. Откуда-то сзади донеслось ругательство. Неизвестно, кому оно предназначалось; Палечку, Конти или Бекеру. Все поднялись с мест и столпились около кафедры. В установившейся тишине светловолосый, краснолицый и голубоглазый немец дерзко и насмешливо произнес:
— Еретикам не пристало дискутировать в университете святого Антония! Мой король, предавший огню тело Яна Гуса, попросту смел с лица земли грязную сволочь!
При этих словах Ганс Бекер поднял правую руку, словно присягая.
Рыцарь мой Палечек обнажил свой узкий меч; сделав большой прыжок, он пронзил воздетую руку немца и пригвоздил ее к доске, оставив меч в ране.
Немец взревел от боли и потерял сознание. А Палечек, безоружный, спустился с кафедры и спокойно прошел по аудитории к выходу. Толпа студентов и бакалавров расступалась перед ним, словно море при переходе евреев, как сказано в Писании…
Моего Пульчетто посадили в карцер. Но к суду не привлекли. Студенты сами освободили своего любимца, и в таверне старого Джорджо, под портиком святой Цецилии, состоялось торжественное заседание, и Палечек пел всю ночь и позволил слуге своему Матею бесплатно побрить и остричь весь юридический факультет.
«Юстиниан раздает звания и должности», — говорят у нас в Падуе, и в особенности так любят говорить о себе самые младшие слушатели юридического факультета. Палечек получил должность старшины в группе заальпийских студентов. Это произошло вскоре после того происшествия на диспуте.
Он председательствовал на собраниях студентов, бакалавров и профессоров, приехавших из-за Альп, причем был так сдержан в выражениях и жестах, вел себя с таким достоинством, что все просто диву давались. Но после одного такого собрания, затянувшегося далеко за полночь, Палечек мой исчез, и его нигде не могли найти. Многие боялись, что его убили в ночной стычке; другие думали, что его посадили в тюрьму по приказу церкви, как еретика. Но и те и другие расценивали как добрый знак, что слуга его Матей исчез вместе с ним. «Поехали путешествовать, — говорили они. — Еще вернутся…»
И в самом деле, один купец привез известие, что моего Пульчетто обнаружили в Венеции. Он поехал посмотреть на море, о котором так тосковал. По словам купца, его видели там сидящим круглые сутки на морском берегу: сидит на теплом белом песке один-одинешенек, устремив глаза на бесконечную сине-зеленую равнину; слуга Матей приносит ему хлеб, рыбу, вино и сейчас же уходит. А мой Пульчетто сидит неподвижно, как статуя. Только глаза плачут. Может быть, он тоскует по родным полям и лесам. Может, по ком-нибудь милом и дорогом. Кто видит в сердце человеческом? Кто поймет сердце чужестранца? Даже я не понимаю его, хотя и посвятил себя исследованию таинственного нутра Пульчетто, как своему второму призванию, — даже я, Никколо Мальвецци, каноник церкви святого Антония Падуанского, посылающий вам, дорогой целитель и магистр Антонио, свой дружеский привет».