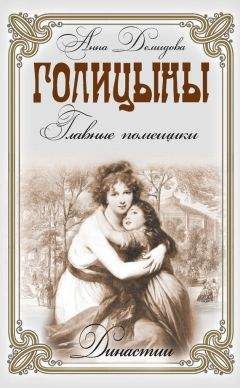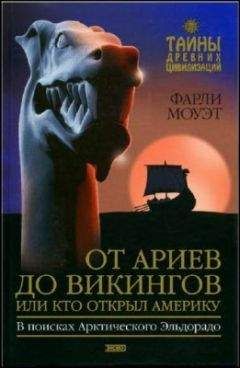Фарли Моуэт - Шхуна, которая не хотела плавать
Прямо у нас из-под ног вспархивали стайки зуйков, там, где у кромки берега лиловели и золотились огромные медузы. От берега волнами поднимались дюны, совершенно безжизненные, если не считать чахлых кустиков песколюбки да табунка низкорослых лошадок, давно одичавших, которые при виде нас вскинули головы, свирепо зафыркали и ускакали в подернутую маревом даль. Признаков жизни было мало, но свидетельств смерти хватало. Меньше чем за час мы насчитали останки по крайней мере двенадцати судов, главным образом деревянных и по большей части старинных. В средней части перещейка, в двухстах ярдах от берега, по обеим сторонам гигантские волны воздвигли огромный вал из корабельных обломков и многого другого.
Среди костей человеческих изделий виднелись кости самых больших из всех живущих на Земле существ — черепа, ребра, челюсти, позвонки синих китов и финвалов. Череп синего кита, полузанесенный песком, был настолько огромен, что даже самый высокий из нас оказался заметно его ниже, и на нем хватило места, чтобы шестеро человек могли рассесться с удобством и почтительно выпить за упокой погибшего гиганта.
Тео лишь с большим трудом удалось вернуть нас на «Орегон». И мы запоздали: когда мы подошли через мели к узкому входу в Барашуа, уже начался отлив.
Место это поистине волшебное. Хотя солнце пылало над нами ничем не заслоненное, все словно окутывала почти незримая дымка. Отдаленные предметы колебались, становились нереальными в жарком мареве, превращались в миражи. Широкая лагуна мерцала, словно заполненная ртутью, по поверхности разбегались фантастические узоры, и мы не сразу поняли, в чем была причина. Только когда «Орегон» прорвался туда через буруны отлива, точно лосось вверх по речной быстрине, мы различили и узнали сотни глянцевитых черных голов, которые качались на волнах, создавая собственные космические спирали серебристой ряби.
Большая лагуна Микелона принадлежит тюленям — крупным, кротким серым тюленям. Их лежбища некогда оживляли тысячи прибрежных островков и рифов от Лабрадора до мыса Гаттерас на юге. Но серые тюлени были легкой добычей для человека — не потому, что они глупы, а потому, что сочетают удивительное добродушие с жадным любопытством. Более пятидесяти лет единственным оставшимся их приютом был Гран-Барашуа. Теперь, когда они взяты под охрану, небольшие колонии перебираются оттуда на прежние лежбища. А в Барашуа их обитает целых три тысячи — и старых и молодых.
Глубина Барашуа при отливе нигде не превышает трех футов, и дно лагуны служит приютом миллионам двустворчатых моллюсков, которые обеспечивают неиссякаемый источник пищи для тюленей и тресковой приманки для рыбаков Сен-Пьера. Пирамиды ракушек высотой до тридцати футов, белеющие в неясной дали, свидетельствуют о богатстве лагуны.
При отливе две трети Барашуа обнажаются в прихотливом узоре песка, ила и узеньких проток с быстро струящейся водой. Когда мы вошли в лагуну, гребни отмелей как раз начинали подниматься из воды, так что Тео понадобилось все его искусство, все его знания, чтобы находить протоки и держаться их.
А мы, остальные, могли вволю разглядывать бесчисленных тюленей, которые всплывали повсюду вокруг и тоже принимались нас разглядывать. Они были всех возрастов и всех размеров, от годовичков, которые высовывали свои морщинистые мордашки и близоруко щурились на нас с расстояния двух-трех ярдов, и до старых самцов весом эдак четыреста фунтов, которые вставали на хвост и наполовину выставляли туловище из воды, глядя на нас с явным вызовом.
Пока баркас лавировал, тюлени подплывали к нему из дальних концов лагуны, и вскоре мы оказались в живом кольце. Волны щетинились подергивающимися усами, из них выглядывали выпуклые глаза. Мы прошли мимо полуобнажившейся мели, на которую уже выбралась погреться на солнце сотня тюленей. Они как по команде повернули головы, следя за нами, но день навевал сонливость, и они не бросились провожать нас.
Тео понадобился час, чтобы пролавировать до северного берега, к твердыне микелонских гор, где у Мартина был маленький охотничий домик. Тут наши пассажиры высадились, но нам, троим членам команды, было некогда сходить на берег. Отлив продолжался, и мы знали, что либо немедленно выберемся из лагуны, либо простоим посреди водного пустыря десять часов, если не дольше. И мы устремились к выходу из нее.
Поскольку плоскодонные баркасы Сен-Пьера и Микелона каждый вечер должны извлекаться на берег, их владельцы изобрели замечательный способ оберегать вал и винт. Вал снабжен универсальным шарниром в том месте, где он пропущен сквозь днище судна; а ближе к корме имеется колодец с деревянными стенками. При приближении к мелководью торчащую из этого колодца ручку вытягивают вверх, винт с валом поднимаются в колодец, и днище освобождается от каких-либо выступов.
Вынюхивая проход там, где, казалось, не было ничего, кроме мелей, Тео приказал мне встать рядом с ручкой и по его команде поднимать винт прежде, чем он заденет дно. Несколько раз нас сносило на глубину трех-четырех дюймов, но мы умудрялись находить протоку достаточно глубокую, чтобы можно было опустить винт и вновь включить двигатель.
Но на полпути к выходу я чуточку запоздал выполнить свою обязанность, когда Тео рявкнул в очередной раз. Толчок — двигатель смолк, мы потерпели аварию.
Правда, нам оставались весла — массивные, длиной в пятнадцать футов, сильный мужчина мог еле-еле управиться с одним. Но до Сен-Пьера было пятнадцать миль, и я решил, что мы погребем назад к домику Мартина и кто-нибудь из нас отправится пешком в Микелон, до которого десять миль, и договорится о буксире или найдет необходимые запасные части.
Но я плохо знал Теофиля Дечеверри. Мы погребли — если такой глагол подходит для описания манипуляций с этими бревнами в деревянных уключинах, — погребли в противоположную сторону. Мы гребли, гребли, часто садясь на мель, пока не достигли выхода, а там бросили якорь в глубокой воде, чтобы установить характер и размер повреждений.
Поскольку нам троим было не под силу вытащить «Орегон» на песок, а Тео не умел плавать, мне же галантность не позволяла возложить эту миссию на Клэр, то я был вынужден раздеться и нырнуть за борт. Вода была ледяной, но зато абсолютно прозрачной. Нырнув в первый раз, я обнаружил, что гребной вал безнадежно погнут. Исправить это сами мы никак не могли, не говоря уж о других повреждениях. Единственное, что мне оставалось, — попытаться высвободить вал, чтобы можно было убрать винт в колодец.
Это потребовало времени и привлекло зрителей. Нырнув в третий раз, я увидел с расстояния в три фута крупную серую тюлениху. То есть я предположил, что это была именно тюлениха, поскольку она, казалось, испытывала ко мне сильнейший и бесцеремонный интерес, придвинув любопытствующую морду так близко, что я, при полной моей наготе, покраснел бы от смущения, если бы мог. Но поскольку покраснеть я никак не мог (так как посинел от холода), то поплыл к берегу, где встал на ноги, содрогаясь от озноба и негодования, и попытался объяснить Клэр и Тео двусмысленность моего положения. Но сочувствия у них не нашел. Тео заверил меня, что в моем замороженном состоянии я абсолютно гарантирован от сексуальных посягательств. Клэр же только хихикнула.
Я вновь взялся за работу. И теперь уже три тюленя примеривались мне подсобить — или что еще там было у них на уме. Повернувшись к ним спиной, я наконец высвободил винт, вынырнул и влез на борт.
— Вот видишь, — сказал мне Тео (с некоторым разочарованием, как мне показалось), — ничего же не случилось, а?
Я не представлял себе, что Тео планирует делать дальше, но он скоро меня просветил.
— Maintenant (А теперь (фр.)), — сказал он твердо, — мы поплывем домой под парусом.
Я не знал, что у нас есть парус… и какой же это оказался парус! По-моему, свою жизнь он начал на греческой триреме, ибо древности был неописуемой. Косой, бермудский по форме, он был таким тонким, истертым, что ветер, веявший легчайшим зефиром, продувал его насквозь.
С помощью весел-бревен мы преодолели дикую толчею, где накатывающаяся зыбь встречалась с отливным течением, и вновь оказались в открытом океане.
Теперь береговая дымка, такая прелестная в Барашуа, превратилась в коварного врага, так как маскировала низкую линию дюн и смазывала силуэты Микелона и Ланглейда. Вскоре мы оказались в полном одиночестве в пустом океане, где не было видно ни клочка суши.
Впрочем, оснований опасаться, что мы заблудимся, никаких не было. На «Орегоне» имелся компас. Тео с гордостью извлек его из-под скамьи и небрежно водворил на машинный люк — то есть на триста с лишним фунтов железа. Компас, по-моему, был китайским, века, на глазок, двенадцатого. Песок настолько отшлифовал стекло, что картушка стала неразличимой. Впрочем, поскольку стрелка заржавела и приросла к картушке, особого значения это не имело. Но главное, у нас был компас! Тео никогда на него не глядел, что, пожалуй, было и к лучшему.