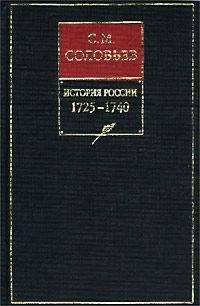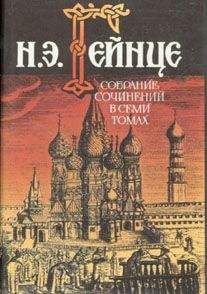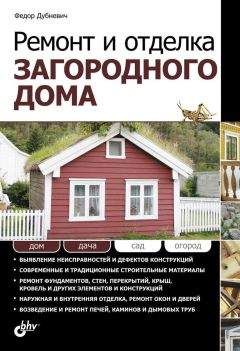Николай Гейнце - Генералиссимус Суворов
— Почему же к попу?..
— Дело божественное… Пусти, али прощенья просим…
Отца Иоанна заинтересовало это загадочное сообщение незнакомца.
— Постой, постой, не торопись, — сказал он, — я щеколду отодвину, а ты, войдя, все же окурись…
— Известное дело окурюсь… только все это напрасно, потому Божие послание.
— Так-то так, а пословица недаром молвится: береженого Бог бережет. Окурись.
— Ладно…
Отец Иоанн отодвинул щеколду и сам быстро отошел от калитки. В последнюю вошел парень лет двадцати пяти, судя по костюму, фабричный, с обстриженными в скобку белокурыми волосами, с лицом, опушенным жидкой бородой, и усами, цвет которых был светлее цвета волос на голове, и с бегающими хитрыми серыми глазами.
Вошедший старательно стал окуриваться у костра. Он поворачивался во все стороны, наклонял голову, протягивал ноги, обутые в смазанные сапоги. Такое тщательное окуривание окончательно расположило к парню отца Иоанна.
— Довольно, сын мой, довольно… — сказал он. — Пойдем в горницу… Изрядно кажись, зажигайте, — добавил он, обратившись к жене и сыновьям.
Те начали исполнять приказание, и вскоре дым от четырех костров наполнил дворик и почти скрыл умиравшую в соседнем доме старуху, продолжавшую только повторять одно слово;
— Пить, пить…
Отец Иоанн прошел в сопровождении молодого фабричного в дом. В доме пахло смесью мяты, уксуса и деревянного масла.
В первой комнате, в которую священник привел своего гостя, в переднем углу стоял большой киот с множеством образов, перед которым горели три лампады. Священник размашисто перекрестился на иконы и сел на лавку.
— Садись! — указал он парню на табурет.
Тот тоже несколько раз осенил себя крестным знамением и, поклонившись в пояс иконам, присел на край и стал вертеть в руках свою шапку.
— Ты кто же будешь, молодец? — спросил священник.
— Григорий Павлов… По фабрикам работаем, — уклончиво отвечал тот.
— Какая же, по-твоему, мору-то нынешнему причина? — спросил отец Иоанн.
— Причина-то, батюшка? — повторил фабричный.
— Ну да, причина мора-то?
— Божие наслание…
— Это само собой. Без Бога ни до порога, волос с головы не спадет без воли Божьей, в Писании сказано. Но ты говорил, что знаешь, почему он настал, мор-то…
— Знаю.
— Откуда же это ты знаешь?
— Откровение мне было.
— Откровение! — вытаращил на него глаза отец Иоанн.
— Сонное видение, батюшка, мне было в позапрошлую ночь.
Григорий Павлов остановился и пытливо посмотрел своими хитрыми глазами на священника. Тот тоже подозрительно глядел на него.
— Что же тебе привиделось?
— Пресвятая Мать Богородица явилась мне, грешному, недостойному рабу.
— Что ты, милый, не врешь? Ведь грех смертный.
Фабричный на одно мгновение потупился, по его лицу пробежала легкая судорога, но он тотчас оправился и произнес:
— Как перед Истинным…
— Мать Пресвятая Богородица, говоришь ты, привиделась тебе?
— Верное слово, батюшка.
— В лучах?
— В лучах, батюшка, светлая-пресветлая, с младенцем на руках.
— Как иконы пишут?
— Точь-в-точь.
— Что же дальше?
— Поведала она мне тайну страшную, отчего ныне по Москве мор такой идет.
— Отчего же?
— А оттого, говорила, что иконе Ее, что у Варварских ворот, уже более тридцати лет никто молебнов не пел, ни свечей не ставил. Слышь, батюшка?
— А это и впрямь истина, — заметил отец Иоанн. — Икону-то сию москвичи подлинно позабыли.
— Вот то-то и оно-то.
— А более ничего не сказывала тебе Царица Небесная? — спросил священник после некоторой паузы, уже совершенно серьезным, убежденным голосом.
— Сказывала… Сын мой, Иисус Христос, хотел, говорит, послать на Москву каменный дождь, но я умолила его послать только трехмесячный мор.
— Вот оно что, — развел руками отец Иоанн. — Это, сын мой, тебе доподлинно откровение.
Фабричный молчал.
— Ты никому этого сна не рассказывал?
— Никому, опричь тебя, батюшка. Так и в уме положил рассказать все попу и взять у него благословение.
— На что благословение?
— Да на то, чтобы народу сон этот поведать.
— Как же ты его поведаешь народу?
— Как?! Стану у Варварских ворот с чашкой и начну на всемирную свечу собирать Пресвятой Богородице, да всем православным, проходящим свой сон и поведаю.
— Как бы от начальства, парень, тебе за это не досталось. Строго от начальства-то насчет этого. Смущает, скажет.
— Начальство! Какое теперь, батюшка, на Москве начальство… Главное-то по своим домам, что по норам, попряталось, а младшему не до того теперь, да и что же я затеваю, не воровство какое, дело божеское.
— Смотри, парень…
— Да ежели мне и попадет. Ужели претерпеть нельзя из-за Царицы Небесной?
— Не только можно, а должно, сын мой.
— Так благословите, батюшка.
Отец Иоанн встал, и некоторое время стоял в раздумье. Лицо его постепенно принимало все более торжественное выражение. Стоял перед ним и Григорий Павлов со склоненной долу головой.
— Да благословит тебя Господь Бог, сын мой, тебя, избравшего орудием Его Святого Промысла, гласом Его Божественного Откровения, — прервал, наконец, молчание священник.
Парень склонился еще ниже. Отец Иоанн благословил его. Фабричный поймал его руку и прильнул к ней губами.
— Иди, сын мой, и да хранит тебя Бог.
Григорий Павлов истово перекрестился на иконы, поклонился поясным поклоном священнику и вышел. Отец Иоанн крикнул старшему сыну, уже находившемуся в соседней комнате с матерью и братом, чтобы он запер за уходившим калитку. Сын пошел исполнять приказание.
— Господи, Господи, дивны дела Твои! — вполголоса про себя говорил священник, ходя по комнате медленными шагами.
Он не заметил, как вскоре после ухода фабричного в эту же комнату вошла матушка-попадья. Он продолжал шагать из угла в угол по комнате, все повторяя: «Дивны дела Твои, Господи!»
— Отец, а отец, что с тобой? — окликнула его матушка-попадья.
— Ась? — остановился отец Иоанн.
— Я спрашиваю, что с тобой. Какие такие дивные дела рассказал тебе парень?
— Да, матушка, поистине дивные дела рассказал он мне, — начал отец Иоанн и передал своей жене слово от слова весь рассказ фабричного.
— Господи, Господи, вот страсти какие! Каменный дождь. Слава Ей, Царице Небесной, умолила Создателя смягчить гнев Свой над Белокаменной.
Попадья охала и крестилась. День уже склонялся к вечеру. До отхода ко сну проговорили священник с женою и сыновьями, которым отец повторил рассказ фабричного о привидевшемся ему дивном сне.
— Более, говорит, тридцати лет не пели молебнов и не ставили свечей. Как услыхал я это, у меня сердце упало. Оно и впрямь икону-то Ея, Царицы Небесной, что у Варварских ворот, совсем позабыли, точно ее и не было.
— Разгневалась матушка, Пресвятая Богородица.
— Гневна, гневна, да милостива, умолила не губить совсем святой град.
В таком роде шли разговоры в доме священника.
На другой день сыновья отца Иоанна, а особенно матушка-попадья, не утерпели, чтобы не рассказать о сне фабричного соседям и соседкам уцелевших от мора домов, и к вечеру того же дня весть о сне фабричного во всех подробностях и даже с прикрасами с быстротой молнии распространилась по Москве.
Народ хлынул к Варварским воротам, где стоял знакомый вам парень с деревянной чашкой и действительно собирал деньги на «всемирную свечу» Царице Небесной и всем желающим рассказывал свой сон.
II. Бунт
Чума между тем все продолжала выхватывать в Москве свои жертвы, которые ежедневно считались сотнями.
Главнокомандующий граф Петр Семенович Салтыков, как мы уже говорили, бежал в свое подмосковное имение Марфино. Вместе с ним уехали губернатор Бахметьев и обер-полицмейстер Иван Иванович Юшков.
После них чумная Москва подпала под деятельный надзор генерал-поручика Петра Дмитриевича Еропкина. Последнему именным указом было предписано, чтобы чума «не могла и в самый город Санкт-Петербург вкрасться», и от 31 марта велено было Еропкину не пропускать никого из Москвы, не только прямо к Петербургу, но и в местности, лежащие на пути. Даже следовавшим через Москву в Петербург запрещено было проезжать через московские заставы. Мало того, от Петербурга была протянута особая сторожевая цепь под начальством графа Брюса. Цепь эта стягивалась к трем местам: в Твери, в Вышнем Волочке и в Бронницах.
В самой Москве были приняты следующие гигиенические меры: в черте города было запрещено хоронить, и приказано умерших отвозить на вновь устроенные кладбища, число которых возросло до десяти, кроме того, велено погребать в том платье, в котором больные умерли. Фабричным с суконных фабрик было приказано явиться в карантин, неявившихся велено бить плетьми. Сформирован был батальон сторожей из городских обывателей и наряжен в особые костюмы.