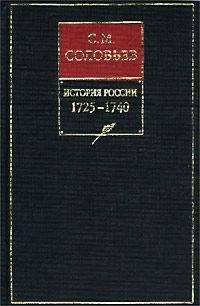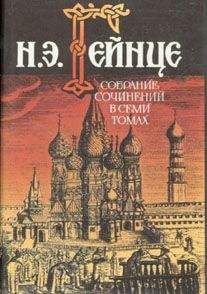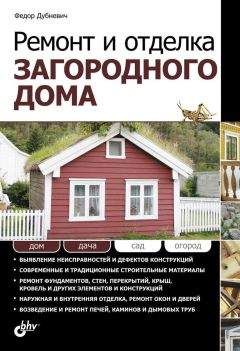Николай Гейнце - Генералиссимус Суворов
— Вот каналья, завел в трущобу, да и тягу. Ну, да Бог милостив, мы и сами выберемся.
— Тут едва ли выберешься, ваше высокоблагородие, — заметил один из казаков, — темень хоть глаз выколи, дождь ливмя льет, молния, гром.
— Это все хорошо… помилуй бог, как хорошо. Впотьмах нас никто не увидит, гром заглушает топот лошадей, дождь их освежает, а молния служит нам проводником. С Богом, ребята, перекрестимся и в путь.
Ободренные казаки собрали последние силы, выкарабкались из болота и стали на твердую землю.
— Куда теперь, ваше высокоблагородие? — спросил один казак.
— Куда, куда, закудакал, — передразнил его Суворов. — Мало тебе простора, что ли? Скачи куда глаза глядят. За мной!
Всадники поехали наудалую. Всю ночь проплутались они в лесу. Гроза утихла, дождь перестал. Небо очистилось, и на нем зажигалась заря, предвестница утра. Наконец показалось и оно, светлое, ясное, какое обыкновенно бывает после ночной грозы. Всадники ободрились.
— Лагерь видно, ваше высокоблагородие, — радостно доложил один казак.
Александр Васильевич посмотрел по направлению, указанному казаком.
— Лагерь-то, брат, лагерь, только не наш, а неприятельский.
Оба казака вздрогнули и бросились назад.
— Смирно! — повелительно крикнул Суворов.
Казаки повиновались, а Александр Васильевич стал слезать с лошади, проговорив:
— Помилуй бог, как хорошо, помилуй бог, как хорошо. Вы, ребята, — обратился он к казакам, — возьмите моего коня и засядьте в чащу за кустарником, там вас никто не видит.
— А вы куда же, ваше высокоблагородие?
— Сейчас вернусь, — ответил Александр Васильевич и стал пробираться вперед между кустарниками.
XXIV. Заговоренный
Александр Васильевич шел, согнувшись, а пройдя кустарник и очутившись на полянке, пополз по ней. Добравшись, таким образом, до группы деревьев, он вспомнил свое детство, когда в ветвях деревьев родительского сада прятался от своего старого дядьки, уже теперь лежавшего в могиле, и с прежней быстротою вскарабкался на самую вершину одного из самых высоких деревьев.
Перед ним, как на ладони, раскинулся неприятельский лагерь, лежавший от него на ружейный выстрел прусских часовых. Суворов на ветвистом дереве чувствовал себя, как дома. Он уселся на одном из самых надежных его суков, вынул свою записную книжку и принялся что-то чертить и писать в ней. Сделав, таким образом, точную съемку лагеря, Александр Васильевич спрятал свою книжку, спустился с дерева и снова, то ползком, то согнувшись в три погибели, то бегом, между высокими кустами вернулся к тому месту, где его ожидали казаки. Последние были в большой тревоге. Увидав, что их подполковник пошел прямо, на так сильно испугавший их неприятельский лагерь, казаки послушно забрались вместе с конем Суворова в частый кустарник и притаились там.
— Ишь, понесла нелегкая его высокоблагородие. Прямо на него так и попер… — шепотом начал один казак.
Солдаты и казаки никогда не говорят «неприятель», «неприятеля», а заменяют эти слова многозначительными: «он», «его».
— Да, брат, чудак он тоже, его высокоблагородие.
— И впрямь чудак… Все ему хорошо… Немчура, проклятая работы задала — хорошо. Темно — хорошо, дождь — хорошо, гроза — еще лучше.
— А вдруг он его словит… — вдруг прошептал многозначительно один из казаков.
— Кого?..
— Да его высокоблагородие.
— Ни в жисть!
— А почему?
— Он заговорен.
— Кто?
— Подполковник.
— Как заговорен?
— Да так. Люди бают, что еще в младенчестве его старуха одна заговорила. Мне один солдат Казанского полка рассказывал. Добр, бают, он был сызмальства. Забрела в деревню к его отцу нищенка-старуха и встреть барчонка у барского двора… Сжалился он над нею и дал ей свой последний грош. Старуха палкой дотронулась до его головы и стала что-то бормотать. Мальчонка перепугался страсть, хотел бежать, ан ноги-то к земле что приросли. Отболтала свое старуха, да тут же на месте прахом рассыпалась. Барчук-то от страха так и присел. А потом сам об этом всем рассказывал.
— Что же она над ним говорила?
— Что, что, дубина ты стоеросовая, разве про то мы знаем. Не колдуны, чай, а православные христиане. Только, значит, заговорила. Ни пуля его, ни сабля не берет.
— Ан и врешь, он, слышь, ранен был.
— От смертельной раны заговорила. А так царапины-то на войне — клад.
— Клад?
— Вестимо дело, за них начальство кресты дает.
— Это верно. А вон, кажись, и его высокоблагородие.
— Он и есть.
Казаки, несмотря на то, что один из них был убежден, что начальник заговорен, а другой вполне поверил рассказу товарища, несказанно обрадовались и громко, почти весело произнесли последние слова.
Это был действительно возвращавшийся Александр Васильевич. Он вскочил на лошадь и крикнул:
— Ребята, за мной!
Все трое поскакали в противоположную сторону леса, где, по расчетам Суворова, должен быть расположен лагерь Фермора. Он не ошибся.
Прибыв в лагерь, он застал генерала Фермора готовящимся к соединению с Бергом и нападению на неприятеля. Добытые Александром Васильевичем сведения о неприятельском лагере явились как раз кстати. Не переменив даже измокшего белья и платья, Суворов вместе с отрядом, данным Фермором, пошел на соединение с Бергом, а затем двинулся на осмотренный им неприятельский лагерь.
Сражение началось, но первое выступление было неудачно. Русские передовые гусарские эскадроны были опрокинуты. Победа, казалось, уже была на стороне неприятеля, как вдруг, откуда ни возьмись, появился Александр Васильевич.
— Стой, куда вы?.. — крикнул он отступавшим гусарам. — Я здесь!
Отступавшие остановились.
— Стройтесь!.. — скомандовал Суворов, и все пришло в порядок, как на ученье.
Курбьер открыл, между тем, картечный огонь и построил оба свои батальона в каре, но они не выдержали яростной атаки подоспевших к Суворову конно-гренадер и положили оружие. Тем временем приближалась прусская кавалерия.
Александр Васильевич собрал кое-как своих расстроенных гусар, прихватил часть казаков, смелым ударом опрокинул подошедшую кавалерию и затем забрал в плен большую часть фуражиров находившегося вблизи отряда Платена.
Платен переменил позицию, отойдя за городок Гольнау и оставив в нем небольшой отряд пехоты. Русская артиллерия принялась разбивать городские ворота, но безуспешно. Генерал Берг дал Суворову три батальона и приказал завладеть городом. Утром он бросился к городу под сильным огнем, выломав ворота, ворвался в улицы, причем получил две незначительные раны. Город был взят.
Вскоре после этого ему дали во временное командование Тверской драгунский полк, до выздоровления полкового командира. Берг двумя колоннами, из которых левую вел сам, а правую, из трех гусарских, двух казачьих и Тверского драгунского полка, поручил Суворову, двинулся к Кольбергу, который и сдался 16 декабря.
Кампания 1761 года близилась к концу. Весть о подвигах молодого подполковника Суворова распространилась по всей армии, не только нашей, но и неприятельской. Только и было речей, что о нем. Солдаты полюбили его, как отца, а начальники сознавались в его необыкновенной храбрости и редких военных дарованиях. Во всей армии не было человека, который бы не знал подполковника Суворова, между тем как большая часть солдат не знала даже многих старых генералов.
По выздоровлении командира Тверского драгунского полка Александру Васильевичу дали под команду архангелогородских драгун, и в общем представлении об отличившихся Румянцев поместил его, как кавалерийского штаб-офицера, который, хотя и числится на службе в пехоте, но обладает сведениями и достоинствами прямо кавалерийскими.
Перемена рода службы Суворова, однако, не состоялась.
Генерал Берг тоже отозвался о нем с большой похвалой, как отличном кавалерийском офицере, который быстр в рекогносцировке, отважен в бою и хладнокровен в опасности. Были, конечно, люди, которые приписывали все подвиги Суворова отчасти счастью, отчасти удали, не щадившей ни своей, ни чужой жизни. Но этот змеиный шип во все времена и у всех народов раздавался и раздается вокруг великих людей.
Война с Пруссией продолжалась еще некоторое время. Несмотря на победы, одержанные русскими, несмотря на взятие Берлина, она была тяжела для России, и все с нетерпением ожидали ее окончания.
25 декабря 1761 года императрица Елизавета Петровна внезапно скончалась. По преданию, смерть государыни предсказала известная тогда петербургским жителям юродивая Ксения, могила которой на Смоленском кладбище и до сих пор пользуется особым уважением у народа. Ксения накануне кончины императрицы ходила по городу и говорила:
— Пеките блины, вся Россия будет печь блины!