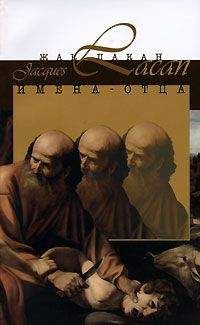Лютер Блиссет - Кью
Йоханнес Денк в Аугсбурге. По пути я получил от него кое-какие известия и теперь точно знаю, где его искать. За грандиозным собранием пасторов общин, которое готовилось все последние месяцы, навязчиво ощущалась рука молодого ветерана восстания.
Указанный мне дом — в конце улицы торговцев шерстью. Мне открыла дверь высокая стройная женщина с ребенком на руках, за ней робко, нетвердыми шагами, шла девчушка, моментально спрятавшаяся за юбку матери. Я старый друг ее мужа, не видевший его много лет. Я задерживаюсь в дверях, а девчушка с любопытством разглядывает меня.
Йоханнес Денк — крепкие объятия, ясные глаза, в которых светится недоверие.
Он предлагает мне выпить из фляжки на поясе и дарит сердечную улыбку без слов. Ощупывает мои руки, плечи, словно чтобы удостовериться, что я не призрак, выплывший из пучины страшнейших кошмаров. Да, это действительно я. Но забудь мое имя, если не хочешь доставить ищейкам удовольствие. Он радостно смеется:
— Как мне теперь тебя называть? Лазарем? Возрожденным? Воскресшим?
— Два года я был Густавом Мецгером. Сейчас я Лукас Нимансон, продавец тканей. Завтра, а кто его знает…
Он продолжает с ужасом разглядывать меня. Нам обоим трудно подобрать слова, решить, с чего начать. Поэтому мы так и продолжаем молчать до бесконечности, думая обо всем. В тот день Мюльхаузен был островом, изолированным от мира и от жизни, на котором мы волей случая собрались искать путь к Богу. Из разных мест и по ьоле разных судеб.
— Ты один?
Голос напряжен и полон воспоминаний.
— Да.
Он опускает голову, восстанавливая в памяти лицо, фигуру, крик радости и надежды, эхом разносившийся далеко вокруг.
— Как?
— Удача, друг мой, удача и, возможно, чуть-чуть милости Господа Бога, который решил помочь мне. А ты?
Глаза, расширенные от воспоминаний, словно для него это тяжкий труд, словно речь идет о его детстве.
— Мы застряли в болотах где-то в районе Эйзенаха. Я умудрился набрать около сотни людей и разжиться небольшой мортирой. Но мы столкнулись с колонной солдат, вынудивших нас искать убежища в деревушке, названия которой я не помню. — Он поднимает взгляд, уставившись куда-то в пустоту поверх моей головы. — Мне жаль, что я не смог ничего сделать. Мы не оказали вам помощи.
Он кажется еще более удрученным, чем я. Я думаю, сколько раз за эти два года он вновь и вновь переживал собственную беспомощность в тот день.
— Вы тоже стали бы пушечным мясом. Нас было восемь тысяч, и я не знаю никого, кто спасся.
— Кроме тебя.
Я криво улыбаюсь и пытаюсь иронизировать по поводу собственного позора:
— Кто-то должен был рассказать об этом.
— И им оказался ты. А это важнее всего.
— Мы все потеряли.
В его глазах блестит ироничная мудрость.
— А ты разве не знаешь вещей, ради которых можно потерять все?
Гримаса удивления — это все, чем я могу ответить ему. Но я знаю, что он прав, и как бы мне хотелось с той же легкостью забывать собственное прошлое.
Он сразу становится серьезным: у него не было недостатка во времени для размышлений.
— Когда я узнал, что Магистра Томаса и Пфайффера приговорили к смерти, я тоже подумал, что со мной покончено. Говорят, что во время преследований после Франкенхаузена были убиты еще сотни тысяч человек. Я удрал, я прятался в лесах и пытался спасти собственную шкуру. Много месяцев я не спал по две ночи подряд в одной кровати. Но я не был одинок, нет, во мне жила надежда вновь связаться с братьями из других городов, со всеми друзьями и коллегами из университета. Это поддерживало во мне жизнь, это давало мне силы не опустить руки и не сесть на землю в ожидании последнего удара. Если бы я тогда остановился, меня бы здесь теперь не было и я не смог приветствовать тебя.
Мы выходим во двор за домом, где несколько облезлых цыплят роются в пыли и две свиные шкуры сушатся на солнце, как старые изношенные паруса.
Моя очередь рассказывать.
— Я отсиживался. Я был мертв. Я зарылся под землю на целых два года, колол дрова и выслушивал скучнейшие речи одного сумасшедшего, который приютил меня: Вольфганга Фогеля.
— Фогель! Господи Боже, я слышал: его казнили несколько: есяцев назад.
— Я едва избежал его участи.
Он встревоженно свистит сквозь зубы:
— Как вас выследили?
— Они перехватили одного из компаньонов Гута, когда он направлялся на юг разыскать хоть кого-то из спасшихся. Я представляю, как они мучили его, как выбивали из него имена. Фогель, должно быть, оказался в списке, поэтому ему пришлось бежать. И мне с ним. Ищейки проклятые. Они преследовали нас целых два дня, пока мы не решили, что нам лучше разделиться. Мне повезло, ему нет. И вот я здесь.
Он изумленно смотрит на меня:
— Твой ангел-хранитель поистине необыкновенно могуч, друг мой.
— Гм. В наше время лучше иметь надежный меч.
Воздух свеж, шум города едва доходит до нас. Мы сидим на полене. Солидарность выживших теряется, мысли и слова становятся спокойными, даже далекими, как звуки, доносящиеся с улицы. Мы живы, и этого чуда сейчас для нас довольно — вот что мы хотим сказать друг другу, не добавляя ничего больше.
От ликера его голос становится хриплым.
— На днях должен прибыть еще и Гут. Он вбил себе в голову, что Апокалипсис вот-вот наступит, если он отправится в народ, как святой, крестить людей. Просто удивительно, как его до сих пор не схватили. Он шатается по округе, останавливается поговорить с крестьянами и спрашивает их, как они понимают отрывки из Библии, которые он им читает.
Я усмехаюсь:
— Очевидно, он добился громадных успехов!
— Гут! Неудавшийся книготорговец, ставший пророком!
Какой-то миг мы оба надрываемся от смеха, вспоминая трусоватого Ганса, которого оба хорошо знали.
— До меня дошли слухи, что Стерх и Метцлер пытаются вновь создать армию, собирая выживших в той войне. Вот еще два безумца. Нет никакой надежды. Сюда, напротив, с конца прошлого года прибывают братья. Из Швейцарии и из соседних городов. Здесь хороший климат, и, по крайней мере, мы можем свободно встречаться. Это отличные парни, ты должен с ними познакомиться, они пришли из университета. Собор, который мы организуем, станет первым шагом к новому движению. Отсюда все начнется вновь, и уже сейчас становится все больше и больше тех, кто хочет свободно исповедовать истинную веру. Но мы должны быть осторожными.
Возможно, ты ожидал бурных проявлений энтузиазма, но на этот раз я разочарую тебя, брат. Я по-прежнему молчу, давая ему возможность продолжить.
— У нас есть и Якоб Гросс из Цюриха, мы выбрали его министром веры, и Зигмунд Сальмингер, и Якоб Дашер, его заместители, они из Аугсбурга и хорошо знают здешних жителей. Есть еще и последователи Цвингли, Леопольд и Лангенмантель. С их помощью мы учредили фонд помощи бедным…
Он говорит об отдаленных событиях, словно рассказывает сагу об исчезнувшем народе… Возможно, почувствовав это, он останавливается — тяжелый вздох:
— Не все потеряно.
И вновь та же двусмысленная усмешка, моя:
— Ты действительно хочешь начать все снова, Иоганн?
— Я не хочу, чтобы новые священники говорили мне, во что я должен верить и что я должен читать, будь то паписты или лютеране. Нас достаточно, чтобы просочиться в университеты и подорвать авторитет друзей Лютера и князей, потому что в университетах, в городах формируются и растут умы и именно оттуда распространяются идеи.
Я пристально смотрю ему в глаза: неужели он действительно верит во все это?
— А ты рассчитываешь, что вам позволят это сделать, что они будут стоять и смотреть, пока вы будете создавать свою организацию? Я видел их. Я видел, как они набрасывались на невинных людей и вырезали их, мальчишек…
— Знаю, но в Аугсбурге все по-другому, здесь даже дышится свободнее, я убежден, что, будь Мюнцер сейчас здесь, он бы согласился со мной.
Это имя бередит мои раны, и я взрываюсь от ярости:
— Но его нет. И нравится тебе это или нет, это довольно важно.
— Брат, при всем своем величии он не был всем.
— Но тысячи, шедшие за ним, были. Много лет назад я покинул Виттенберг, потому что мне приелись теологические диспуты и доктора, объяснявшие мне, что читать, в то время как за его стенами вся Германия пылала огнем. Но после всего, что произошло, я по-прежнему думаю так же. Этим твоим теологам не остановить преследований.
Мы молча идем по периметру двора, возможно, даже он не до конца верит себе. Он останавливается и передает мне фляжку.
— По крайней мере, попытаться стоит.
Глава 8
Особняк у патриция Ганса Лангенмантеля весьма внушительный — в гостиной помещаются все. Около сорока человек, многие из них уже крещены и обращены в баптизм Гутом, который только вчера вернулся в город. Обнимая меня, он повторил слова Магистра: «Время пришло», и я не знал: рассмеяться ему в лицо или уйти. В конце концов я попросту окончательно заткнулся: наш книготорговец не заметил, что время движется, а несправедливость продолжает торжествовать. Да и как он мог? Он сбежал при выстреле первой пушки.