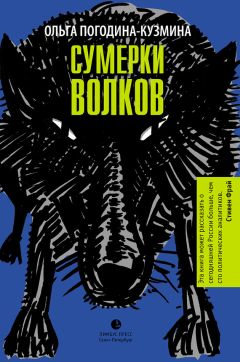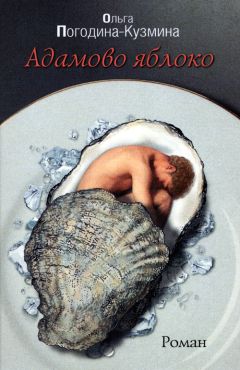Борис Савинков - То, чего не было (с приложениями)
– Ольга.
– Что?
– Ольга…
– Что, милый?
– Ольга, что же делать теперь?
Она потупилась. Он в нетерпении пожал плечами.
– Что ты думаешь, Ольга?…
– Что я думаю? Да?…
– Ах, Боже мой, не тяни…
Ее круглое, почти бабье лицо стало вдруг холодным и некрасивым.
– Володя, я тебе вот что скажу… Ты спрашиваешь, что делать? Не знаю, что делать… Но, слушай, есть люди… Их огромное большинство… Они ничего не могут, ничего не смеют, ничего не понимают, они от неудач приходят в отчаяние… Слабые дети…
– Ну?
– Ну, а есть и другие…
Она неожиданно наклонилась к нему и упругим, почти кошачьим движеньем обняла его шею.
– Слушай, Володя, скажи… Если человек решился на все, если он все перенес, все понял, все пережил, если он заглянул в самый низ, в черную бездну, в жуткую-жуткую тьму… И если ему не сделалось страшно… Если он взглянул и у него не кружится голова… Скажи, как ты думаешь, он такой, как и все? Он – слабый ребенок? Или, может быть, у него есть власть над людьми? Власть над жизнью и смертью?…
Володя с недоумением, не понимая, о чем она говорит, посмотрел на нее. Она мягко, всей грудью, прижалась к нему, и ее глаза, лукавые, серые, стали желанно и непривычно близки. Он стесненно вздохнул.
– Не надо бояться, милый… Такому человеку позволено все. Слышишь ли? Все. Для него нет греха, нет запрета, нет преступления. Только надо быть смелым. Люди говорят: ложь, и боятся ее. Люди говорят: кровь, и боятся ее… Люди боятся слов… Пусть бездна низа… Разве нет бездны верха?… Счастлив, кто их обоих узнал. Я думаю так: вот мы решились на великое, на страшное, какое страшное!.. Мы решились на революцию, на террор, на убийство, на смерть. Кто может вместить, тот вместит… Вместит и ложь, и кровь, и свое страдание. А кто не может, тот… тот, конечно, погибнет… И туда ему и дорога! – жестоко, с презрением договорила она.
Володя почти не слушал ее. Оттого, что она была здесь, рядом с ним, и оттого, что рассыпались ее косы, и что ровно, под абажуром, горела неяркая лампа, и что в комнате было тихо, – он чувствовал себя не большим и сильным, знаменитым «Володей», а пригретым маленьким мальчиком. Угадывая это тайное чувство, Ольга на ухо шепнула ему:
– Милый, как ты устал…
И как только она это сказала, Володя, впервые за долгие месяцы, понял, как глубоко он утомлен, утомлен своей бездомною жизнью, безжалостно-ожесточенной борьбой. Он закрыл глаза и, склонив лохматую голову, забывая о партии, о дружине, о революции, забывая даже о ней, об Ольге, жадно, как пьяный, пил заслуженный и короткий отдых. Не было жизни, не было крови, не было смерти, не было баррикад, террора, жандармов и комитета. Было темное и блаженное, беспредельное чувство покоя. Ольга, не отрываясь, с улыбкой смотрела ему в лицо. Всклокоченный и немытый, с рябинами на побледневших щеках, заросший вьющейся бородой, он казался ей светлым красавцем. Но это длилось недолго. Володя, точно спросонок, тряхнул волосами и повторил свой вопрос:
– Так что же делать теперь?
– Что делать? – Ольга недовольно подняла брови. – Не мне, Володя, решать, а тебе…
Володя молчал, вертя в руках потухшую папиросу.
– Слушай, Ольга, – наконец начал он. – Это все чепуха… Я философии не знаю… Какие там бездны?… Но знаю, что примириться я не могу… Нет, не могу… Ненавижу их… Понимаешь ли, ненавижу… Есть две дороги. Одна – с партией, с доктором Бергом– Дорога съездов, уставов, программ, комиссий и, черт их дери, канцелярий… По этой дороге я шел… К чему она привела? Восстание раздавлено, террор прекращен… Может быть, партия и растет, но революция погибает… да… да… погибает… Есть другая дорога, Ольга… Слушай меня. Война так война… Понимаешь ли? Я решил. Пусть я сегодня один… Завтра нас будет много… Не хочу белых ручек, благоразумных советов… Не хочу бумажных угроз… Не умею и не буду прощать…
Он оттолкнул ее руку и встал. Он уже не чувствовал утомления. Он испытывал ту напряженную, звенящую, как струна, решимость, которая пробудилась в нем в доме Слезкина и за динамитом бросила его в Тверь. Ему казалось, что нет казни, нет жертвы, нет испытания, которые бы смутили его. И еще казалось ему, что такова верховная воля народа, что не он, революционер Глебов, говорит восторженные слова, а устами его вещает народ, – нищий, смиренный, вольнолюбивый и страшный русский народ.
– А деньги?
– Какие деньги? Что деньги?… Деньги даст комитет.
Ольга покачала задумчиво головой.
– Комитет денег не даст.
– Не даст?… Ну, и черт с ним тогда! – Володя стукнул кулаком по столу. – Я найду деньги! Я!
– Но где же, Володя?…
– Где? Нет денег – убей! Я миллионы достану! Я открою решетки банков, я взломаю чугунные сундуки! Я с оружием в руках возьму деньги. Слышишь? Ты мне поверишь? Что мне берговский комитет? Я один в поле воин! О, будет им на орехи! Запылают дворянские гнезда! Вспомнят они Степана Тимофеевича!.. Да!
Бородатый, кудрявый, черный, с блестящими, как искры, глазами, Володя во весь свой огромный рост встал перед нею. Теперь она с гордостью, с ликующим восхищением смотрела ему прямо в глаза. Она верила, что он сделает, как сказал. Она верила, что такова его и ее – да, и ее – непреклонная воля. Не нужно Болотовых и Бергов, Залкиндов и дряхлеющих стариков, не нужно размеренно-рассудительной мещански расчетливой партии. Все дозволено! Все! Во имя народа нет колебаний, нет беззаконий! И он, ее черный витязь, Володя – царственный вождь. Он покажет народу освободительный путь, он спасет погибающую Россию. И счастливая, с горячим румянцем на щеках, она безмолвно склонилась к нему.
V
Володя разыскал комитет и сообщил ему о своем решении. Уговоры, просьбы, мольбы и даже слезы Арсения Ивановича не имели успеха. Володя поехал на юг, с юга на Волгу и месяца через два стоял во главе навербованной им «железной» дружины. Сережа и Ваня не последовали за ним. Оба они наотрез отказались выйти из партии. Отказался и Болотов, хотя Володя настойчиво звал его. Зато к дружине примкнул уволенный за беспорядки студент, известный всему Петербургу, Эпштейн.
Рувим Эпштейн считал себя высокодаровитым ученым. Он страстно и, как казалось ему, научно критиковал одобренную общепартийным съездом программу. Он верил, что от ошибок ее и бедственных заблуждений искажается смысл революции и что вскрывая эти ошибки, он нелицеприятно исполняет свой долг. Он доказывал, что демократическая республика – обветшалая полумера и что партия должна стремиться не к власти, а к свободному устроению анархических общин. Он доказывал, что во имя этой великой цели допустимы сильнейшие средства. Он советовал грабить купцов, жечь помещиков, «экспроприировать» в пользу народа имущество частных лиц. Он утверждал, что опаснейший враг революции – не правительство, а «буржуазия» и что нельзя и не надо щадить «презренного буржуа». Его темно-голубые очки и зелено-бледные щеки мелькали на всех сходках, митингах и собраниях. Он говорил много, возражал пылко и неизменно заканчивал свою речь громовым призывом «к оружию». Когда он услышал, что знаменитый «Володя» рассорился с комитетом, он, радостный, явился к нему и долго и горячо убеждал расширить дружину и попытаться создать боевую «истинно революционную» партию. Он в подробностях изложил свою, проверенную научно, программу и разработанный им безошибочный план борьбы. Володя, позевывая, смотрел на его слабые руки, на жидкую грудь, равнодушно слушал самоуверенно-резкий голос и терпеливо ожидал конца длинной речи. «Кулик не велик, а свистит громко», – решил он в душе. Но так как Эпштейн высказывал знакомые мысли и так как он мог «трепать языком», то есть при случае защитить «платформу» дружины, Володя принял его. Эпштейн был счастлив. Он думал, что Володя разделяет крайние убеждения и что в истории ветхозаветной и еретической, сбившейся с пути революции развертывается блистательная страница – выступление новой, несомненно, победоносной, по его, Эпштейна, теории, построенной партии.
Володя верил в свою звезду. Он чувствовал в себе полноводный источник неистраченных сил: силы мужества, ненависти, воодушевления и веры. Он не сомневался, что избранный им одинокий путь разумен и неизбежен. Но, потрудившись месяца два над созданием крепкой дружины и готовясь к первому шагу – к большой и сложной «экспроприации», – он иногда со страхом думал, что будет, если первое дело окончится поражением? Пока он был членом партии – не было этой заботы. Он знал, что следом за ним идут сотни товарищей и что они завершат не завершенное им. Пусть даже эти товарищи будут доктора Берги, посеянное зерно не умрет, и всколосится веселое поле. Но теперь, оглядываясь на мятежных «боевиков» – на Эпштейна, на Константина, на мальчика-гимназиста Митю, на кузнеца Прохора, на конторщика Елизара, на всех, увлеченных его отвагой людей, – он с горестью видел, что, если завтра его повесят, никто не станет у покинутого кормила. Он упорно гнал эти мысли, говорил себе, что не может быть неудачи, жадно слушал вдохновенные слова Ольги и все-таки не мог заглушить сердечной тоски. В Одессе ходила молва об одиночке-революционере, беглом матросе «Мухе». После недолгого колебания Володя решил повидаться с ним. Он втайне надеялся, что найдет наконец достойного друга. Свидание он назначил в Москве. Стянув рассеянную по всей России дружину в Тверь и приказав ожидать своего возвращения, он, не советуясь с Ольгой, выехал в уже успокоенную Москву.