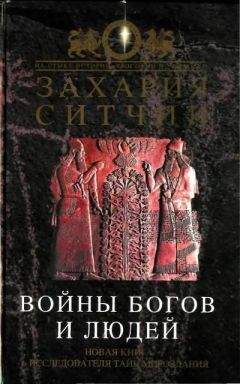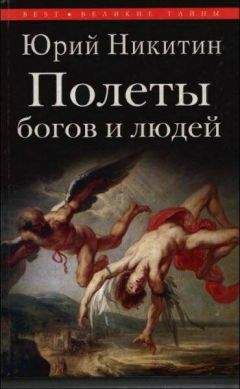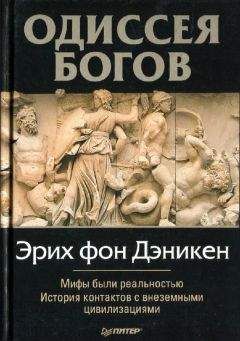Н. Северин - Звезда цесаревны
— Ты бы, Петр Филиппович, под предлогом болезни, что ли, отказался от должности да уехал бы с Филиппушкой в Лебедино, — сказала Лизаветка.
— Не время теперь службу царскую бросать, — угрюмо заметил он. — Вот, Бог даст, повенчаем его на царство, ну, тогда надо думать, что и граф Остерман, и прочие, что скорбят о нем не меньше нашего, наберутся сил и смелости сказать Долгоруковым правдивое слово и сократят общим советом их власть над царем.
— Хорошо, кабы так, — вздохнула Лизавета. — Пора! Дело-то при них не в пример хуже, чем при Меншиковых, пошло.
— Вот и ты, как тот Докукин, говоришь, — заметил муж.
— Да ведь и ты то же думаешь, Петр Филиппович…
Он промолчал, а она, подождав с минуту, продолжала:
— Во всяком случае, раньше и моя цесаревна жила честнее, а теперь даже и думать не хочется, куда она идет от отчаяния… Уже в городе стали поговаривать про то, что она вместе с Долгоруковыми царя губит.
— Пыталась ты ей все это представить?
— Сколько раз! Да она уж не та, что была раньше: слушать-то меня слушает, а чтоб хоть крошечку исправиться — и не думает. С Александром Борисовичем все-таки сдерживалась, он ей каждую минуту напоминал про ее звание и к чему звание это ее обязывает. Ему было лестно быть любимым цесаревной, императорской дочерью, имеющей права на русский престол… ведь чуть было императрицей не сделалась! Ну а теперешний-то ее сердечный друг — иного поля ягода: чем она проще себя держит, тем она ему ближе. В Александровском совсем как простые люди живут, со всеми встречными и поперечными она знакомится, всех к себе зазывает, с крестьянскими девушками в хороводах ходит и с парнями деревенскими песни поет… Я так это понимаю, что она с отчаяния так себя повела: не может утешиться, что престола лишилась во второй раз через Меншиковых. Как свалили их, она первое время страданиями их тешилась, только, бывало, про них и говорит да расспрашивает, каждой их слезе радовалась, ну а как увидела, что при Долгоруковых ей не легче и что, чего доброго, эти еще крепче свою фамилию к царству приладят, чем Меншиковы, и затосковала она пуще прежнего, а чтоб забыться, и кружится без устали то с простыми девками да парнями, то с возлюбленным, то с царем и с теми, кто его окружает. И чем только все это кончится — одному Богу известно! Намедни горевали мы с Маврой Егоровной о ней и договорились до того, что самое было лучшее — замуж ее отдать за какого-нибудь немецкого принца… все же лучше, чем через долгоруковские происки в монастырь попасть.
— До этого еще далеко — не цари еще Долгоруковы, чтоб царскую дочь в монастырь заточить…
— Сами-то еще не цари, и царями, Бог даст, никогда не будут, а что дочь свою старшую они в царицы прочат, это по всему видно…
— Не оборвались бы на этом, как Меншиков. У них дочь на шесть лет старше царя, и слава про нее нехорошая идет… Тебе кто про этот новый долгоруковский прожект говорил? — спросил он угрюмо.
— Да уже я от многих слышала. Мавра Егоровна уверяет, что у них все к тому подведено: царя по целым дням с нею оставляют, а когда ее нет, ему в уши про нее брат ее жужжит и прочие. Ведь теперь у вас во дворце, кроме тебя, нет ни единой души, ими не закупленной, сам ты это знаешь.
Да, он это знал, и каждое слышанное от жены слово служило мучительным подтверждением ни на минуту не перестававших терзать его и днем и ночью догадок.
Долгоруковы хотят женить царя на княжне Екатерине. И женят, если им не помешают вовремя. А как помешать? Сказать прямо самому царю о грозящей ему опасности? Представить ему все пагубные последствия этой интриги? Но ведь во всяком случае, кроме обручения, он ничему не подвергнется до поры до времени. Он скажет, если теперь с ним об этом заговорить, что обручение ни к чему не обязывает. Разве он не был обручен с Меншиковой, и разве эта помешало ему сослать свою невесту вместе со всей ее фамилией? Как объяснить ему, насколько Долгоруковы опаснее Меншиковых и что от них труднее избавиться, чем от таких без роду и племени проходимцев, как бывший пирожник? Да и постыдно царю русскому второй раз обручаться с девицами, на которых он не имеет твердого намерения жениться, и потому только, что у него своей воли нет… И как знать, какую над ним заберет власть такая красивая и в жизненных делах многоопытная девица, как княжна Екатерина, ведь не для того же, чтоб любить и холить мальчика-царя, жертвует она любовью к человеку, в которого страстно влюблена и супругой которого должна была сделаться. Разумеется, ей захочется найти вознаграждение за принесенную жертву, а в чем ей искать это вознаграждение, если не в утехах честолюбия и властолюбия?
Положение с каждым днем обострялось все больше и больше. При последнем своем свидании с мужем Лизавета напомнила ему, что возле царя остался только он один, не подкупленный фаворитами, а дня два спустя он был призван к князю Ивану, чтоб выслушать строгий выговор за то, что он позволяет себе слишком фамильярно обращаться с его величеством, давать ему советы беречь свое здоровье и избегать излишеств в кушанье и питье, тогда как в той должности, которую он занимает, ему надо только заботиться о царском гардеробе да о надзоре за волосочесами, портными и прочим людом, в обязанности которых входит забота о царском платье и белье.
— Во время одевания и когда в покое нет придворных, ты позволяешь себе разговаривать с царем о предметах, не имеющих никакого касательства до твоей обязанности; вчера ты даже до того забылся, что осмелился ему напомнить о том, что он пятую ночь раньше как в пятом часу утра не ложится почивать… Твое ли дело заботиться о здоровье его величества, когда он окружен вельможами, которые лучше тебя знают, что ему полезно и что вредно? Предупреждаю тебя, — продолжал всемогущий в то время князь Иван Алексеевич Долгоруков, — что мне это очень неприятно и что тебе было бы лучше вовремя убраться из дворца подобру-поздорову, чем дождаться, чтоб я тебя выгнал, как прочих. Нам нужны возле царя преданные нам люди, понимаешь? — прибавил он, вскидывая гневный взгляд на слушавшего его в почтительной позе у двери Праксина.
— В недостатке преданности моему царю никто упрекнуть меня не может, ваше сиятельство, — сдержанно отвечал Петр Филиппович.
Ответ этот привел царского любимца в такую ярость, что лицо его покрылось багровыми пятнами, и ему стоило большого усилия, чтоб не кинуться на ничтожного камер-лакея, дозволившего себе дать ему урок общежития, и не вытолкать его из покоя, тем не менее, вспомнив, что время еще не пришло для него проявлять свою власть над царскими слугами, он повернулся к окну, с минуту перед ним постоял в раздумье, а затем, обратившись к продолжавшему стоять у двери Праксину, спросил, не желает ли он получить более спокойное и лучше оплачиваемое место, чем то, которое он теперь занимает.
— Я могу просить батюшку, чтоб он назначил тебя смотрителем царского дворца в Петербурге или которого-нибудь из его загородных домов, а может быть, тебе было бы приятнее управлять царскими имениями в Малороссии или на Волге?
— Я на свое положение при царе не жалуюсь, ваше сиятельство, — отвечал Праксин.
Уж это было слишком, и сдавленный гнев молодого князя вырвался наружу в крикливом возгласе:
— Ступай вон, если понимать меня не хочешь! И не пеняй на нас, если с тобой случится что-нибудь худое.
Праксин ушел к себе домой, вполне просвещенный относительно того, что ждет его в самом скором будущем, и с решимостью не покинуть своего поста, не попытавшись спасти царя от расставляемой ему новой ловушки. Времени терять нельзя было. В тот же вечер, или, лучше сказать, на следующее утро, потому что царь вернулся из загородного дома Долгоруковых, где был бал с фейерверком и катанием в санях, далеко за полночь, Праксин в почтительнейших выражениях стал его умолять подумать о своем здоровье, вспомнить, что через несколько дней должно произойти священное торжество венчания его на царство и что вся Россия с животрепещущим волнением следит за каждым его шагом и сокрушается недостойным образом жизни, который его заставляют вести в такое важное для него и для всех его подданных время.
В обширном покое с расписным потолком и со стенами, обитыми штофом одного цвета с пологом, окружавшим со всех сторон золоченую кровать посреди, не было, кроме них двоих, ни души, и, опустившись на колени перед царем, лежавшим уже на кровати, Праксин продолжал настаивать на необходимости для царя изменить жизнь, учиться, чтоб сделаться достойным править вверенным ему Богом народом. Увлекшись волновавшим его чувством любви к родине и поощренный терпеливым вниманием, с каким его слушали, и серьезным выражением устремленных на него детских глаз, Праксин распространялся о святости великого таинства, которое готовятся над ним свершить, и об обязанностях, налагаемых на него этим таинством.