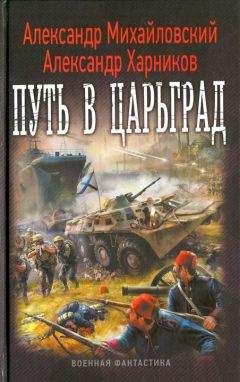Ион Друцэ - Белая церковь
Стали налетать дикие голуби из соседних лесов. Они и раньше налетали, эти дикие голуби, и покойный отец Гэинэ, царствие ему небесное, целыми днями сиживал на церковных ступеньках и гонял их, чтобы не садились на крышу храма. Кидал в них камнями не хуже сельских мальчишек, так что в деревне по этому поводу похихикивали. Сама Екатерина, грешным делом, корила его слыханное ли дело кидать камнями в голубей, когда в священном писании сказано, что дух святой снизошел над спасителем в виде голубя?!
После смерти отца Гэинэ дикие голуби день и ночь гуляли по соломенной крыше околинского храма. Они обжили ту крышу до того, что стали пролезать в щели на чердак, вили себе там гнезда, выводили птенцов. Радости Екатерины не было конца — целые тучи сизокрылых налетали, гуляли по крыше церкви в свое удовольствие, а между тем они своими розовыми лапками размололи ту крышу в труху, и, когда пошли обильные дожди, потолок церкви провалился вместе с опустевшими гнездами диких голубей.
Все следующее лето бедная Екатерина очищала храм от мусора. Она таскала на себе балки, куски глины, утешая себя тем, что, покуда стоят стены, алтарь и окна, все еще поправимо. Вон в соседних селах чуть ли не в каждом доме проваливались потолки, и что же? Принимаются люди из-за этого заново отстраивать дом? Даст бог, кончится война, созовут в Околине клаку, это когда весь народ кидается на выручку, чтобы сразу порешить с каким-нибудь делом. А когда Околина собирается на клаку с хорошим настроением, да еще заведет длинную старинную песню, она может за день не то что потолок — новый храм поставить может!
А между тем война все шла. И по-прежнему поздней осенью возвращались беженцы в свои полуразрушенные, опустошенные огнем деревни. Зимовать в доме без окон и без дверей — дело невеселое. Нужно что-то придумать. Уж так устроен глаз мужика, он все берет на примету, все помнит, и, когда прижал холод, вспомнили, что в соседней, не горевшей еще ни разу Околине церковь полуразрушена, но окна и двери там сохранились.
Он уходил в небытие, этот скромный околинский храм, а жизнь в селе, в котором нету храма, казалась Екатерине немыслимой, невозможной, непостижимой. Потребность хотя бы два раза в день опуститься перед иконой на колени, чтобы очистить свой дух покаяниями, для нее была так же органична, как потребность в хлебе и в воздухе. Каждый день она готовилась к возрождению храма. Она накопала самой лучшей глины, какой только можно было найти, она натаскала мелкой соломы и конского навоза, чтобы было с чем глину перемешать. Она рассчитала свою жизнь до того дня, когда соберется село, чтобы возродить храм, но вот этот день настал, а она месит глину в одиночку, низко опустив голову…
Шестеро ребятишек, присмирев, сидят у стен на корточках и, наклонив шейки, стараются разглядеть снизу, как там матушка — сильно ли убивается или, может, отлегло? Чувствуя на себе их взгляды и будучи не в силах совладать со своим горем, Екатерина опускала голову все ниже, ниже и вдруг неожиданно вздрогнула, выпрямилась, и залитое слезами лицо, открыв себя, замерло от удивления.
Ангел возвестит тебе-е-е…
Каким-то чудом все вдруг ожило, высветилось, осмыслилось. Развален храм — ну так что же? А мы на что? Не бросилось село на помощь — ну так что же? А мы на что? Упали духом? А дух на что? Все это и еще многое другое вместил в себя удивительный по красоте, по чистоте голос, который вдруг взметнулся под съехавшей набок крышей полуразрушенной церкви. Стоя посреди глиняного замеса, Екатерина принялась быстро креститься. Ребятишки дружно пошли за ней работать правой ручкой, и только тут Екатерина увидела в проеме одного из окон, служившем теперь второй дверью, красивую молодую монашку.
Она пела не так, как обычно поют в сельских храмах — стоя кое-как, сложив руки на животе. Она развела руки в стороны ладошками вверх, точно держала на них огромный таинственный сосуд. Держа этот сосуд, обратив свой взор к высокому небу, проглядывавшему сквозь дырявую, съехавшую набок крышу, она пела ровно, красиво, торжественно, и ее голос, возвышенный мелодией и словами, казался храмом уже сам по себе.
С заткнутым за пояс подолом юбки, по колени в мокрой глине, Екатерина стояла с открытым ртом, потому что никогда еще божеское чудо и божеская милость не казались ей столь явными и близкими. А монашка все пела. Темная юбка и такая же кофточка скрывали крепкое молодое тело, которому это пение было в радость, и только на самых высоких нотах монашка чуть откидывала назад юное, сохранившее детские черты лицо, и на ее высокой шее показывались дрожащие в такт псалму тонкие прожилки.
«Господи, — подумала про себя Екатерина, — да ей петь в первопрестольных соборах, а не в этой развалине… и я как дура торчу в глине во время такого божественного пения…»
Выскочив на улицу, вымыла ноги у колодца, заново повязала платок, вернулась, готовая хоть целую вечность слушать удивительное пение, но, когда она вернулась, монашки уже и след простыл.
— Куда же она девалась?
Дети пожимали плечиками.
— Стояла вот тут, а теперь и нету ее…
В конце концов Екатерина ее отыскала. Монашка уходила высоким берегом вниз по Днестру, к той глиняной крепости возле леса. Должно быть, это и была та монашка, которую Тайка откуда-то привез и про которую в селе говорили какие-то гадости. Господи, о ком в селе гадостей не говорят! А между тем праведные околичане торчат с утра у своих бочек и носа не кажут, а именно эта монашка, хоть и чужой человек, пришла и божественным пением осветила развалины…
От отца Гэинэ Екатерина знала, что, когда знаменитые певчие посещают храмы и поют, им за это полагается вознаграждение. Увы, храм у них был бедный, совсем разрушенный, но все-таки это был храм, и его доброе имя, его достоинство не позволяли, чтобы после такого пения человек ушел просто так, без никакой благодарности.
— Ребятки, пошли домой…
В том году хорошо уродила в глубине двора «храмовая» пшеница, и она имела полное право воспользоваться ею. Недолго думая, Екатерина кинула мерку в свои маленькие жернова, смолола, замесила тесто, развела огонь в печи. Поздно ночью, когда ребятишки спали, она достала из печи прелестный румяный калач, и то, что ей этот калач особенно удался, она тоже отнесла за счет всевышнего благоволения.
Всю ночь ребятишки маялись, их тревожил сквозь сон запах свежевыпеченного хлеба, священный запах жизни земной. Чтобы не мучить их, Екатерина, пока они еще спали, завернула калач в чистое полотенце, перевязала узелком, вышла из дому и отправилась вниз по Днестру к той одинокой глиняной крепости. Чем ближе, однако, она подходила, тем больше ее охватывало какое-то странное волнение. Что-то там, около леса, происходило этим ранним утром. Не дымятся больше задворки, псарня умолкла, ворота настежь открыты…
Какое-то чувство подсказывало не спешить, и она, прислонившись к створкам открытых ворот, выглядывала из этого укрытия, чтобы уяснить себе, что же там происходит. А там ничего особенного и не происходило. Просто-напросто мясистый нос куда-то в большой спешке собирался. Посреди двора стояла готовая в дорогу телега с крытым верхом. Кроме запряженных лошадей, другая пара запасных была привязана к задку телеги. Жена Тайки и обе его дочери стояли на завалинке, как обычно стоят жены, отправляющие в дальний путь своих близких, а голосистая монашка, стоя посреди двора, по-мальчишески посвистывала, давая выход своему хорошему настроению. Она была в той же кофточке, в той же юбочке, но, увы, ни следа от вчерашнего благочестия. Теперь она казалась этакой мясистой, глупой кобылкой, ни о чем, кроме как о пастбище и водопое, не помышлявшей.
Стоя посреди двора, она насвистывала и при этом зазывно качала бедрами, как это делают женщины, когда хотят выяснить, не слишком ли длинна у них юбка. Это ее ритмическое раскачивание бедрами было настолько заразительно, что Тайка, несмотря на крайнюю спешку, проносясь однажды мимо, не смог удержаться, чтобы не шлепнуть кобылку по ляжке. Девица с ангельским голосом приняла шлепок как должное, и только отмеченная хозяином ляжка азартно дернулась, как бы говоря — а попробуй еще…
«Мамочка, да это же грешница, каких мало!» — в ужасе подумала про себя Екатерина и, благо никто ее не заметил, тихо-тихо, спиной стала отходить от глиняной крепости. Когда она была уже довольно далеко, Тайка наконец выехал со двора. Рядом с ним на правах компаньонки сидела монашка. Груженная бочонками телега булькала вовсю на ухабах, но очень спешивший Тайка погнал прямо по полям, на запад, туда, куда вел его мясистый нос в поисках удачи и счастья.
Проводив их, Екатерина возвращалась кружным путем. Она шла по деревне такая одинокая, такая растерянная, что все ей виделось как в тумане. К тому же этот на славу удавшийся калачик своим бессмертным запахом поджаренной хлебной корки добивал ее шаг за шагом.