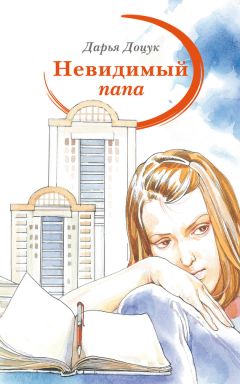Иван Родионов - Жертвы вечернiя
Добровольческая армія, переутомленная безперерывными походами и боями, съ порѣдѣвшими рядами, оборванная, голодная, не имѣвшая снарядовъ, израсходовавшаяпочти всѣ патроны, везшая въ своемъ неповоротливомъ обозѣ трупы своихъ убитыхъ, которыхъ некогда и негдѣ было похоронить, съ громаднымъ транспортомъ больныхъ и раненыхъ, которыхъ нечѣмъ было накормить, нечѣмъ одѣть, нечѣмъ лечить и даже некѣмъ охранять, спѣшила на соединеніе съ кубанцами и жаждала отдыха и подкрѣпленій.
Вечеромъ добровольцы пришли въ полуопустѣвшую Рязанскую станицу, изъ которой казаки-фронтовики сегодня почти поголовно сбѣжали къ большевикамъ, а ихъ отцы и дѣды встрѣчали Корнилова съ хлѣбомъ-солью, какъ давно жданнаго дорогого гостя и на колѣняхъ, со слезами цѣловали его руки.
Совершалось что-то непостижимое, въ одной семьѣ, недавно столь дружной и согласной, шелъ великій разнобой, чреватый невообразимо страшными, гибельными послѣдствіями.
XXVI.
Теперь въ грязномъ, обвѣтренномъ и опаленномъ солнцемъ, загрубѣломъ и поѣдаемомъ вшами, росломъ, лохматомъ партизанѣ съ худымъ, большеглазымъ лицомъ, съ своеобразной боевой выправкой, въ затрепаной, рваной шинелишкѣ, въ дырявыхъ, тяжелыхъ ботинкахъ, съ ружьемъ въ рукахъ и съ сумкой патроновъ при боку едва ли можно было узнать прежняго нѣжнаго, хорошенькаго, краснощекаго, опрятно одѣтаго, вымытаго и причесаннаго гимна-зиста Юрочку-любимца и баловня богатыхъ родителей.
И для самого Юрочки въ его собственномъ сознаніи вся жизнь его разительно и рѣзко переломилась пополамъ:
Одно — это то, что было до побѣга изъ Москвы, другое — невыразимо дикое, кошмар-ное и тѣмъ не менѣе непререкаемо реальное, дѣйствительное, ежечасно и ежеминутно ощу-тимое и переживаемое — послѣ побѣга.
Для него между этими двумя стадіями его жизни какъ будто ничего общаго не осталось.
Ему въ безпрестанной тревогѣ, голодѣ, холодѣ и кровавой борьбѣ за право двигаться и дышать на родной землѣ некогда было вспоминать о прежней жизни, о дѣтскихъ годахъ, когда же такія воспоминанія возставали передъ нимъ, то онъ гналъ ихъ, ибо они возбуждали въ немъ досаду, похожую на стыдъ за то, что онъ дошелъ до настоящаго нищенскаго состоянія, хотя и сознавалъ, что онъ нисколько неповиненъ въ тѣхъ невообразимыхъ злоключеніяхъ, какія выпали на его страшную долю и на долю такихъ же несчастныхъ, юныхъ и преслѣдуемыхъ, какъ и онъ, русскихъ страстотерпцевъ и мучениковъ — его сверстниковъ.
И часто ему казалось, что не онъ, Юрочка, теперь такой грязный и вшивый, жилъ когда-то холеный и чистенькій подъ крыломъ любящихъ родителей въ роскошной квартирѣ, съ свѣтлыми, просторными комнатами, съ налощенными паркетными полами, покрытыми пушистыми коврами и звѣриными шкурами, съ мягкой, удобной мебелью, въ квартирѣ, въ которой столько картинъ, книгъ, зеркалъ, посуды и драгоцѣнныхъ бездѣлушекъ, не его гувернантки учили тремъ иностраннымъ языкамъ, не онъ обѣдалъ въ родной семьѣ за столомъ, всегда покрытомъ бѣлоснѣжной скатертью, имѣя свой собственный приборъ, не онъ спалъ въ своей комнатѣ въ чистой постели, не его ласкали прекрасныя, нѣжныя ручки матери, не отецъ баловалъ его, не онъ былъ любимцемъ семьи и школьныхъ товарищей, а кто-то другой, посторонній, мало общаго съ нимъ имѣющій.
Теперь онъ только партизанъ Кирѣевъ — смѣлый, искусный, гордый воинъ, никогда не отлынивающій, никогда не отказывающійся отъ самыхъ рискованныхъ и опасныхъ боевыхъ предпріятій, желающій жить, но знающій, что когда пробьетъ его предѣльный часъ, онъ безтрепетно, честно, геройски встрѣтитъ смерть и съ достоинствомъ отойдетъ въ царство тѣней изъ этой постылой, опакощенной всяческой ложью, хамствомъ, звѣрствомъ и кровавымъ кошмаромъ жизни, отойдетъ, ни передъ кѣмъ не пресмыкаясь, ни у кого не вымаливая права на существованіе.
Большевиковъ ненавидѣлъ онъ безумно и мстилъ имъ жестоко за мученическую смерть отца, за неизвѣстную судьбу матери и сестренокъ, за убитыхъ, искалѣченныхъ и замученныхъ соратниковъ, за разрушенную и поруганную родину. Но больше и сильнѣе всего въ мірѣ презиралъ и ненавидѣлъ онъ евреевъ. Въ нихъ онъ инстинктомъ чувствовалъ, какъ чувствуютъ опасность, непримиримыхъ враговъ русскаго народа и у него, какъ, и у всѣхъ его сверстниковъ въ отрядѣ, укоренилось нерушимое убѣжденіе, что никто другой, а только еврейство подготовило и устроило великую смуту и бойню на Руси и оно ведетъ Россію и русскій народъ путемъ невиданнаго погрома къ полному обнищанию и уничтоженію.
Онъ, какъ и всѣ его соратники, жилъ жизнью безпріютнаго звѣря въ такихъ ужасахъ и лишеніяхъ, что считалъ себя счастливымъ только тогда, когда въ чрезвычайно рѣдкое отъ походовъ, боевъ и сторожевокъ время ему удастся хоть чѣмъ-нибудь утолить постоянно мучавшій его голодъ, найти хотя бы грязный и вонючій, но теплый уголъ гдѣ-нибудь на голомъ полу среди вповалку лежащихъ товарищей, дабы высушить и отогрѣть свои иззябшіе, обмокшіе, натруженные до боли, усталые члены и поспать мертвымъ сномъ нѣсколько часовъ.
Но и такое скромное счастіе рѣдко выпадало на долю Юрочки.
Чаще же отъ постояннаго нервнаго напряженія, оть физическаго переутомленія и хронической голодовки, онъ доходилъ до состоянія полнаго безразличія.
Ни пули, ни артиллерійскіе снаряды, свиставшіе и рвавшіеся вблизи него, убивавшіе и ранившіе его товарищей, не дѣйствовали тогда на него.
Онъ такъ уставалъ, что ему хотѣлось только сна, покоя, хотя бы такое блаженство пришлось купить цѣною собственнаго существованія.
Часто ему казалось, что та сверкающая, счастливая, нормальная и радостная жизнь въ родительскомъ домѣ, въ атмосферѣ родственной любви и ласки не была его собственной жизнью. Это была чья-то чужая. Ее онъ наблюдалъ гдѣ-то со стороны, видѣлъ въ сладкомъ,
дразнящемъ, несбыточномъ снѣ, слышалъ о ней въ волшебной, чарующей сказкѣ.
Онъ же, Юрочка, совсѣмъ одинокій, всѣмъ чужой, безъ прошлаго, безъ будущаго, безъ надеждъ.
И такими же выброшенными изъ міра, безпощадно преслѣдуемыми имъ, одинокими оказались и всѣ его юные сверстники.
Все, что за всю его недолгую жизнь старательно внушали Юрочкѣ въ родительскомъ домѣ, въ школѣ, въ газетахъ, въ книгахъ, въ товарищеской средѣ, всѣ эти выспренныя, широковѣщательныя разглагольствованія о добрѣ, о правдѣ, о «высокихъ» демократичес-кихъ и соціалистическихъ принципахъ, о свободѣ, братствѣ и равенствѣ, все это на дѣлѣ оказалось не только жалкой и вредной болтовней, а хуже гнусной ложью, подлой преднамѣренной провокацией и жесточайшимъ обманомъ. Все это теперь ежеминутно и ежесекундно показательно и неотразимо опровергается кровавымъ кошмаромъ жизни. Все это оплевано, разбито, попрано и ежеминутно откровенно и цинично попирается грязными лапами торжествующихъ подлецовъ. За всѣ эти сладкія, выспренныя слова демократичес-кихъ сиренъ глупые русскіе люди заплатили и еще заплатятъ потоками своей крови, невиданнымъ униженіемъ, страданіями, паденіемъ и нищетой. Только дураки это не видятъ и этого не понимаютъ. Юрочка уразумѣлъ это собственнымъ страшнымъ опытомъ.
Ужасная жизнь, опаснѣе и непригляднѣе жизни всякаго дикаго звѣря, выпавшая на его долю и на долю его однолѣтокъ въ своей родившей ихъ странѣ, среди своего родного народа, только ожесточила его безмѣрно испытавшее сердце и заставила ни во что доброе, правдивое и справедливое не вѣрить на землѣ.
Жизнь показала ему только окровавленную, хищную пасть, острые зубы и когти.
Онъ видѣлъ только попранныя правду и справедливость и откровенное торжество негодяя, подлеца и обманщика.
Во всемъ подражая удальцу — Волошинову, любившему рукопашныя схватки, въ которыхъ онъ былъ положительно неодолимъ, Юрочка давно уже научился владѣть собою, въ бояхъ былъ спокоенъ, какъ зѣницу ока, берегъ патроны, стрѣлялъ только на близкихъ разстояніяхъ и при томъ всегда на выборъ, чтобы пуля не пропала даромъ.
Онъ презиралъ тѣхъ своихъ соратниковъ, которые, не успѣвши залечь въ цѣпи, уже не выдерживали, а открывали безрезультатную пальбу, какъ только завидятъ вдали противника. На большевиковъ онъ смотрѣлъ, какъ на бѣшеныхъ собакъ, которыхъ надо истреблять, дабы самому не оказаться растерзаннымъ ими. Онъ велъ счетъ собственноручно убитымъ врагамъ и каждое лишнее убійство доставляло ему особенное злорадное удовлетворенiе: однимъ свирѣпымъ, опаснымъ негодяемъ меньше. Въ рукопашныхъ схваткахъ Юрочка, не задумываясь, съ холоднымъ ожесточеніемъ можжилъ прикладомъ болшевистскіе черепа и пропарывалъ штыкомъ животы и груди.