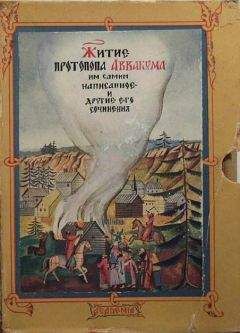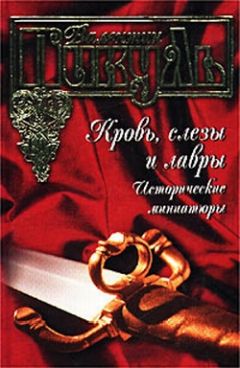Марина Друбецкая - Девочка на шаре
— Давай-ка, пушистик, кончай эти математические выкрутасы. Пиши настоящую цифру или выметайся, — сказал наконец Жоренька и бросил на юношу свой знаменитый взгляд: ледяной, уничтожающий — тот, которым его Ворон из «Защиты…» смотрел на Зимний дворец.
Собеседник поперхнулся.
— Простите, мсье… мсье Александриди! Я только что понял, кто вы! — закудахтал он. — Вы же Ворон! Вы же наш кумир! У нас и значки есть с вашим портрэтом!
Жоренька отставил в сторону трость, которую уже собирался пустить в дело — мальчонка ему надоел.
— А если так? — Юноша радостно зачеркнул все свои каракули и, сильно нажимая на карандаш, жирно вывел новую цифру.
— Умножай на пять и сговоримся, — буркнул Александриди, разворачивая газету и делая вид, что вся эта катавасия ему надоела. Да, именно так учил торговаться о перепродаже травы светловолосый и зеленоглазый англичанин, чья легкая ладонь не раз ласкала его в жарких индийских гостиницах и чей дух покинул их общую комнатку в лазарете раньше, чем Александриди отпустила лихорадка.
— Я должен обсудить, но, думаю, это реально! Вполне реально, господин Александриди! Как же я вас сразу не узнал?! — продолжал верещать новоявленный поклонник. — Просто не ожидал, что вот так запросто можно вас встретить! Я смотрел «Защиту Зимнего» пять раз — ваш Ворон может повести за собой не сотни и не тысячи, а миллионы людей! Ну, пожалуйста, сделайте еще раз такой ледяной взгляд! Ну, по-жа-луй-ста!
Александриди, несколько подуставший от столь активно проявляющей себя реальности, не понимал, мальчишка в бреду или его кинематографическая слава продрала наконец очи ото сна, прочихалась и приподнимет сейчас свой весомый зад. А то без славы скучновато.
— А хотите, прямо отсюда поедем к нам в комитет? — зашептал вдруг веселенький посредник. — Наши вас увидят — то-то будет ликование!
— Ну поедем, коли не шутишь, — хмыкнул Жоренька, нисколько не интересуясь, кто такие «наши». Расплатились, спустились вниз, где их подхватил ярко-синий старомодный автомобиль.
— Выкупили по дешевке, когда один синематографический барин распродавал свое студийное добро, — просвиристел юноша.
Скоро они уже парковались во дворике особняка на Солянке. В просторной гостиной было устроено что-то типа типографии, вбегали и выбегали типы в кожанках и черных сатиновых косоворотках. На стене действительно висел плакат эйсбаровского фильма — точнее, из него был вырезан портрет Александриди. Грозный Ворон стоит в черном плаще на крыше Генштаба и тяжело, прямо в глаза смотрит из-под полуопущенных век. Из дверей появился пузан-бородач, пожал Жореньке руку.
— Рад, сердечно рад, что вы с нами! — засипел он простуженным голосом. — Ваш образ поднимает души наших молодых сограждан. Знаете ли, тех, которым надоели великосветские размазни и беззаботные интеллектуалы… — Сиплый продолжал свой монолог, но Жоренька, успевший в машине положить в рот пластинку гашиша, уже слушал вполуха. В потоке слов нарисовывались солдаты некой новой армии, частью вдохновленные идеей нового порядка, частью — явно анархисты. Однако все они мечтали идти за Вороном, как утверждал пузан. Им хотелось громить зеркала, в которых отражались не они. Жоренька кивал головой, жал вымазанные чернилами руки и шептал сам себе: «Надо бы тут поосторожнее — слишком много персонажей для одного маленького бреда. Значит, это происходит на самом деле. Надо бы ушки держать на макушке…» Скоро он распрощался с новыми приятелями, сговорившись с улыбчивым посредником завтра окончательно решить вопрос цены на товар: «Там же, в „Славянском базаре“, в полдень».
Поймав на улице таксомотор, Жоренька попросил водителя купить ему газету и на странице вечерних развлечений нашел кинотеатр — кажется, на Пресне, — где шла «Защита Зимнего».
Зальчик был маленький. Семечки на полу, обрывки бумаги, в которую заворачивают горячие бублики. Тапер дубасил что-то злобное, на немецкий манер. Александриди поморщился от запаха дешевых папирос. На передних рядах торчало несколько вихрастых голов и старушечьи шляпки. Зальчик походил на хлев, но фильма… Фильма сияла в темноте лучами провидения Господня. Или, скорее, Сатаны. Жоренька, человек, конечно, не религиозный, но Сатане симпатизировал, вероятно, в благодарность за перепавшую от него славу. Черно-белая стать экранного зрелища заставила его приосаниться: боги шествовали по экрану! Боги! Даже понукаемый Вороном небритый плебс со впавшими щеками и горящими глазами обладал скульптурной мощью, и когда в толпе скалились лица, то бросало в дрожь. Да, Эйсбар — гений, хоть и идиот.
Жоренька плюхнулся в кресло на последнем ряду, вытянул ноги и отключился. Из темноты забытья выстреливали короткие сны. Перед ним, Вороном-Александриди, склоняется армия оборванцев, устилая целое поле. Статуэтка Ворона на бампере длинного черного автомобиля, такие же статуэтки — на другом, третьем, четвертом. Мельхиоровая фигурка наклонена вперед, в руке зажат пистолет. Александриди хохотнул во сне, и перекошенная улыбка так и осталась у него на лице. Из темноты снова явился он-Ворон, уже на крыше эйсбаровского домика в Замоскворечье: переступает над улицей с фронтона одного здания на другой. Трамвай, на который он смотрит сверху вниз, злобно и пакостно свиристит — как те обезьяны, что донимали их в Индии. Жоренька очухался. Оказывается, это разнуздался тапер и под финальные титры задумал раскрошить клавиатуру в прах. Ребятня на первых рядах радостно улюлюкала его бряцанью. «Взять кого-нибудь из промокашек в гостиницу?» — подумал было Жоренька, поднял руку в зазывающем жесте, но снова провалился в бред. В зале погас свет, появился титр старенькой мелодрамы «Ничья», во время которой Ворон уже не просыпался.
Глава 6
Объяснение
Ожогин сидел на веранде возле накрытого стола, набычившись, уперев в широко расставленные ноги кулаки и перекатывая во рту изжеванную сигару. Он был зол и растерян одновременно. Зол, главным образом, на себя. Надо же быть таким дураком, чтобы позволить… допустить… довести ситуацию до такого… такой… Да, но до чего он довел ситуацию? И какую ситуацию? Никакой ситуации не было и быть не могло, потому что его отношения с Ленни… какие отношения?.. не было у него никаких отношений с Ленни! Сегодня утром, когда она сообщила ему… Он зажмурился, как от сильной боли, вспомнив сегодняшнее утро. Он, как обычно, пришел к ней в ротонду, и она, как обычно, радостно приветствовала его. Голосок ее звенел и переливался, словно крылышко стрекозы в лучах солнца, когда она воскликнула:
— Спасибо вам за все, Александр Федорович!
— Помилуйте, за что? — А сердце уже зашлось в нехорошем предчувствиии: ее слова звучали как прощание.
— Ну, как за что! Вы с Ниной Петровной…
— С Ниной Петровной?!
Она все говорила и говорила, голосок все звенел и звенел, и была в нем такая горькая для него радость. Но он уже ничего не слышал, ничего не понимал. Нет, неправда. Он сразу все понял: и про отъезд в Москву, и про договор с Ниной, и про ее визит в павильончик Ленни. Главное ухватил. Остальное — ненужные подробности. Понял и то, почему Нина пришла к Ленни. Решила избавиться от нее. Услышала, как кто-то обсуждает его жалкую никчемную страсть, а может, и специально рассказали. Доброжелателей много. Вся студия давно шушукается за его спиной, только он трусливо делает вид, что ничего не замечает, боясь замарать свою любовь сплетнями. Слова Ленни летели в него, как маленькие серебряные пули, и ему хотелось схватить ее, засунуть в одну из шляпных коробок, что по-прежнему стояли в углу, прихлопнуть крышку, сесть сверху и сидеть так до конца жизни, зная, что она никуда оттуда не денется. Но он неуклюже топтался на месте, потом вдруг, оборвав ее на полуслове — «Александр Федорович, что с вами? Вы так побледнели!» — откланялся и потащился в контору.
…Но Нина! Как легко, просто, безнаказанно выставила за дверь, да еще сделала вид, что облагодетельствовала. И ведь действительно облагодетельствовала. Что он теперь ей скажет? В чем упрекнет? Да и вправе ли он упрекать? Вот ведь дурак! Приходил по ночам к ней во флигель — молчал. Плечи целовал, губы целовал — молчал. Домолчался. Давно надо было оставить эти постылые визиты. Давно пора было объясниться. Теперь сиди, жуй сигару. Ничего уж не изменишь. Он заскрипел зубами, поморщился и выплюнул сигарную труху.
Послышались шаги, и он обернулся. Зарецкая входила на террасу. Как обычно, когда они были одни, она быстро подошла к нему, обхватила за шею и поцеловала. Он дернул головой, и поцелуй получился смазанным — между щекой и ухом. Зарецкая, не заметив этого или сделав вид, что не заметила, села к столу и принялась разливать чай. Ожогин наконец закурил.
— А где Вася? — спросила Зарецкая, подавая ему чашку.