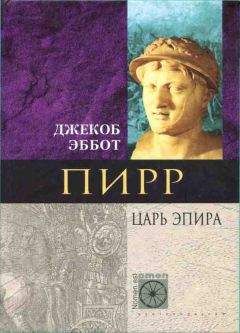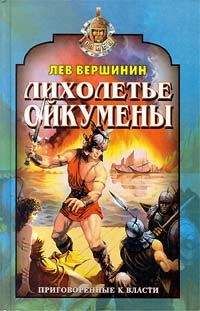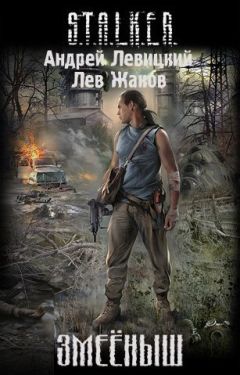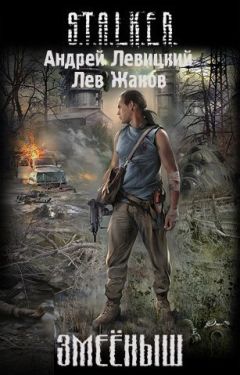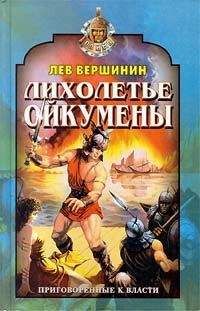Геннадий Прашкевич - Тайна подземного зверя
Увидев долгожданный курул, бросил верхового быка.
Стонал от нетерпения. Прихрамывая, что-то бормоча, бежал прямо к курулу.
– Елфимка, – приказал Свешников. – Внимательно запиши на бумагу каждый сорок соболей, каждую отдельную пластину. Хорошенько проверь, не задохлась ли в сумах мяхкая рухлядь.
Покосился на Лоскута:
– А ты, Гришка, пожалей помяса.
Лоскут ощерился:
– Я и не бью!
– И не бей, – строго подтвердил Свешников. И понимающе кивнул: – Ножом тоже нельзя.
А Елфимка печально пробормотал, оглядывая курул, аккуратно собранный из ровных лиственничных бревнышек:
– Яко при той при халдейской пещи.
– Это ты о чем? – заинтересовался Лоскут.
– А трех отроков бросил злой царь Навуходоносор в пещь огненную. И все трое спаслись, благодаря вере.
– Ты не мудрствуй, – приказал Свешников. – Лучше иди помоги Ериле. Вместе разберите все найденное богатство. Составьте подробную роспись всему, что увидите в воровских сумах.
– А сам?
– Покружусь поблизости. Сердце ноет.
Дождь.
По тропинке, выбитой во мхах, поднялся к брошенной урасе.
Узнал: у входа валялся лопнувший шаманский бубен. Больно кольнуло сердце: все показалось заброшенным, неживым, хрупкую старую ровдугу под ногами озеленила плесень. Позвал:
– Эмэй!
В ответ ничего не услышал.
– Эмэй! Это я пришел. Каалук мигидэ, эмэй.
Заглянул в урасу – пусто. Сунул руку в золу – холодная. Ожидал такого, а все равно в сердце тоска. И от того еще дряхлей, еще древнее показалась Свешникову плоская сендуха под мелким серым дождем, когда выбрался из урасы.
Кривые ондушки. С траурных веток капает. Вокруг корней желтые кольца опавшей хвои. Еще раз позвал:
– Эмэй!
И теперь эхо не отозвалось.
Стоял, опустив руки. Вспомнил, как в темной урасе всплывал из бесконечного беспамятства. Давно уже ничего не болело, осталась лишь тянущая боль в сердце – от ненайденного.
– Как лунный свет, так красив.
Вздрогнул. Обернулся радостно.
Голос серебряный, красивый, а страшное лицо бабы Чудэ отталкивает.
Безбровое с одной стороны, густо бито оспой, и с черным кривым шрамом, оставшимся от удара ножа-батаса.
– Ты звал?
– Я звал.
– Зачем звал?
– Ухожу.
Помолчали.
Помолчав, подсказал:
– Ты тоже уходи, эмэй. Ты теперь совсем уходи. Нельзя одной жить. Уходи к родимцам, к брату Тэгыру.
Ответила просто, рукой потрогав лицо:
– Однако, не пойду.
– Почему, эмэй?
– Так думаю, что болезнь в себе ношу. Так думаю, что опасное в себе ношу. Может, дух русской оспы. Приду к родимцам, начнут родимцы болеть. Шаман умирал, он так приказал: баба Чудэ, не ходи к родимцам.
Низко надвинула на лицо капор, сшитый из лисьих лапок. Опустив голову, печально сидела на верховом оленном быке, свесив круглые ноги. Повторила негромко: нет, не пойду к родимцам. Но Свешников и без того знал – не пойдет. Даже не стал повторять.
– Мэт эль хонэтэйэ. Ухожу, эмэй.
– Ну, вижу.
– Наверное, не вернусь.
– Ну, вернешься.
– Куда? – удивился. – Как?
Но баба Чудэ ничего не объяснила.
Только повторила, будто не расслышав Свешникова:
– Ну, вернешься.
И резко встряхнула головой, такой странной неожиданностью напугав смирного оленного быка. А голос по-прежнему прозрачен, чист. Нисколько не погиб от ножа, не пропал от оспы.
– Уходи к родимцам, эмэй.
Баба Чудэ смирно сидела на смирном быке. Старательно отворачивалась. Потом задрожала, сверкнула на Свешникова живым глазом:
– Не могу уйти. Дух русской оспы во мне. Очень сильный дух. Шаман умирал, так сказал брату Тэгыру: сюда на реку долго не возвращайтесь. Сюда на реку пусть долго никто не ходит. Здесь болезнь живет. Как пойду к родимцам такая? – посмотрела на Свешникова двумя глазами, один выплыл наружу – рыбьим пузырем.
– Как лунный свет, так красив.
Указала куда-то под низкое темное небо:
– Вернешься, там родимцев моих ищи. Там моего брата Тэгыра ищи. Пять дней пройдешь, и еще пять дней пройдешь, может, встретишь Тэгыра.
Помолчали.
– Андыль. Молодой.
Отворачиваясь, вздохнула:
– Как лунный свет.
– Эмэй!
Но баба Чудэ уже коснулась быка коленями, и бык поплыл, плавно и ровно переступая ногами. Неторопливо уносил страшную бабу с серебряным чистым голосом. Еще бы над ними огонь юкагирский зажечь!
– Эмэй!
Не обернулась.
Не услышала. Или не захотела услышать.
Князь Шаховской-Хари, умный воевода енисейский, далекий покровитель помяса Лисая, не зря, выходит, марал виршами дорогую бумагу. «Милуючи, Господь Бог посылает на нас таковы скорби и напасти… Чтоб нам всех злых ради своих дел вконец от него не отпасти…»
Подъезжая к курулу, крикнул:
– Гришка!
– Здесь я. – Лоскут неторопливо появился из-за ондушек. Сплюнул презрительно, левая щека исцарапана в кровь. – Видишь? Съехал с ума Лисай. Любую мяхкую рухлядь рвет из рук. Какую пластину ни возьми, на каждую кричит – моя!
– А ты?
Гришка ухмыльнулся:
– А я что? Я не бью Лисая.
– Вот старайся и дальше так.
По сырым мхам, как по влажным подушкам, подошли к бревенчатому курулу, высоко приподнятому над землей. На полянке валялись старые зазеленевшие оленьи шкуры, наверное, приволоченные с брошенного стойбища. Елфимка, сын попов, не глядя отпихивался одной рукой от трясущегося, постанывающего от жадности помяса, другой подсчитывал строго:
– И вторая сума медвежья. Белая, шита мешком. Отвяжись, Лисай, Христом-Богом прошу. А в суме двадцать сороков соболей в козках. Ну, отвяжись, Лисай. И третья сума медвежья чорная, ворот большой. А в ней тридцать три сорока двадцать два соболя с пупки и с хвосты. Там же лисица красная.
Увидев Свешникова, пожаловался:
– Вот Лисай привязался, никак не отвяжется. Как что увидит, на все сразу кричит – мое!
Отпихнул ногой трясущегося:
– И еще сума оленья, шита мешком. Это, Лисай, нам выпало за наши мучения. За то, что терпели много. А в суме тридцать сороков двадцать семь пупки, восемь хвостов собольих.
Не выдержал:
– Ерило! Привяжи Лисая к ондуше!
– Мое! – кричал, трепеща, помяс и тащил на себя красную лису.
– Ну, ударь его, – попросил Елфимка скалящегося Гришку Лоскута.
– Не бей убогого, – покачал головой Свешников. – Раз говорит, что лису сам промышлял, отдай ему.
Так, плача, искали.
И так, плача, идем.
Издавна идем, думал Свешников, покачиваясь в такт оленьему шагу.
Кто с Дону, кто с Руси, кто с Камня. За нами – ладан. Пороховая гарь. Звон колокольный. Сердце ныло, но не оборачивался. Вдруг еще видна под низким небом фигурка верхового быка? И баба на нем – голос серебряный? Тэгыр отыщет бабу Чудэ, так подумал. Если сам жив, конечно. Ведь, уходя, с собой уносили оспу. Остался ли кто живой? А если остался, захочет ли искать? Разве жизнь многих родимцев не дороже жизни одной сестры?
Не оглядывался.
Не знал еще, что Семейка Дежнев, сосед по Якуцку, обогнул на деревянном коче угрюмый Необходимый нос, далеко вышедший в море. Так далеко, что за тем мысом уже никакой земли не было.
Не знал еще, что пеше вышел Семейка на совсем новую реку Погычу. А спутник Семейкин – казак Федот Алексеев, по фамилии Попов, прозванный Холмогорцем, выброшен бурей на чужой берег, цынжает среди дикующих.
Не знал еще и того, что Мишка Стадухин силой отнял суда у целовальника Кирилы Коткина, тщась догнать Семейку.
Много еще не знал.
Шли.
И не знал главного.
В Москве и в Якуцке боярам да воеводам стало вдруг не до старинного зверя.
Князь Трубецкой, начальник сибирского приказа, тайно с нарочным сообщил в Якуцк воеводе Пушкину: в Москве бунт, затаись! Вот Пушкин и затаился. Были, были у него всякие дела, стоило ему затаиться. Может, от ничтожного вора Сеньки Песка до собинного царского друга боярина Морозова тянулись его дела. Не зря ведь так прозрачно намекнул князь Трубецкой: ты, дескать. затаись, Василий Никитич, не выказывайся! Если даже нашли старинного зверя, определи его в какую казарму. Пусть тихо живет, ест сено, что ли. Нехорошо являть царю старинного, когда в Москве страшный бунт. Да еще боярин Львов Григорий Тимофеич многое сотворил, сумел наговорить царю много загадочного про старинного зверя. Так много наговорил, что царь Алексей Михайлович духом смущен: дескать, как так, с рукой на носу? Почему нет такого в Коломенском? И напрасно боярин Морозов пытается объяснить: тот зверь, что морок. Ну и что? Да хоть и такой, смело заявил Григорий Тимофеич в очном споре, да в присутствии государя. Вот и получается теперь, жаловался князь Трубецкой воеводе Пушкину, что если нашли старинного зверя, то, несомненно, усилится боярин Львов Григорий Тимофеевич, как удачный подсказчик. А всесильный Милославский отойдет в тень, потому как препятствовал появлению носорукого. Пусть только неверием, но препятствовал. Даже, может, попадет в опалу. Отправят в тихие деревеньки.