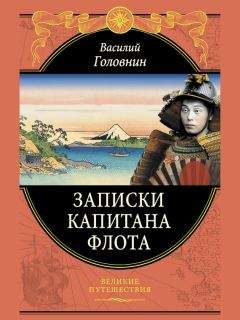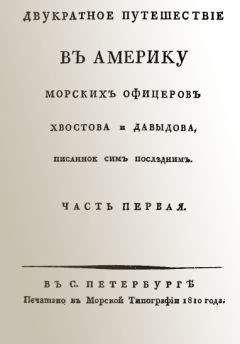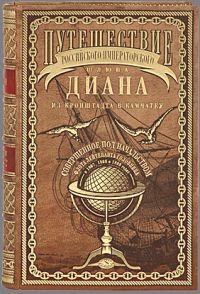Ольга Форш - Одеты камнем
Вдруг подскочил татарчонок, что-то прокричал, и два чабана, доившие коз, положили к ногам старика внезапно заболевшего козла.
Старик тотчас присел на корточки, замурлыкал протяжную песнь и, вынув из-за пояса кривой нож, подставил его луне. Луна, дымная и неполная, выходила из-за облаков. Как белые бельма, тускнели закатившиеся глаза больного козла. Старик прищурился, скрипнул зубами, полоснул козла около живота.
Хлынула черная гадкая кровь. Он прихватил цепкими пальцами, как крючками, разверстую рану, придержал ее недолго и вдруг, дернув козла за рога, поставил его на ноги. Козел, шатаясь, пошел к стаду. Стадо шарахнулось от него, чего-то испугавшись.
Чабаны, гортанно гикая, стали щелкать бичами.
Старик подошел к нам, остро глянул на меня, тронул черной рукой. Проговорил что-то ласково Ларисе, указав на сторожку.
Лариса, побледневшая под луной, с каким-то новым помолодевшим лицом сказала мне:
— Дед уводит стадо на ту сторону, а нам дает свою сторожку.
Многоглазый небесный покров, ужас стада, темная власть старика, кругом немая, плодородная земля.
— Идемте же в козью сторожку, к козьему богу! И я сказал:
— Я пойду, куда поведете…
В большой холщовой палатке, обложенной снизу дерном, было душно и совершенно темно. На земле на душистом горном сене разостланы козьи шкуры, они же развешаны были вдоль и поперек. Несло острым потом, козьим молоком, кожей, сыром, прокисшим вином.
Усевшись в шелковистую шерсть, мы словно попали в отару овец.
И мы целовались, не видя друг друга.
Перед рассветом я, должно быть, заснул. Когда, открывая глаза, я почуял на лице своем солнечный луч, мысли мои прояснились, и я вдруг пришел в ужас, что сейчас увижу Ларису.
Но тут же по ощущению той физической свободы, которой ее присутствие меня всегда лишало, я мгновенно понял, что ее больше нет в палатке.
Эта мысль неожиданно меня наполнила беспокойством. Я вскочил — ее не было. Я выбежал наружу: солнце едва взошло. Горы, как умытые, стояли в нежно-голубых тенях.
Полное безмолвие. Стадо с пастухом ушло до восхода. Я крикнул:
— Лариса!
Откуда-то снизу, быть может из того же ущелья, куда ее столкнул Михаил, мне ответило твердое, неприятное, как попугай, эхо.
Я сел на камень и заплакал. Мне казалось: я себя потерял безвозвратно.
Старый чабан вырос откуда-то из кустов. Он мне знаками объяснил, что Лариса ушла. Своей узловатой палкой он указал мне подробно дорогу.
Я стремительно кинулся по тому же пути, где мы подымались вчера. Я, спотыкаясь, топтал огромные шишки с пахучей прозрачной смолой, и опять мелькали по краю обрыва серебристые сосны с перекрученным голым стволом. Опять в бархатистых складках зеленых долин между гор белели отары овец. Сейчас я не видел красот, мне все было — лишь вехи в пути. Мне надо было только одно: скорей ее видеть, заставить ее отвечать.
За минуту боявшийся ее присутствия, я сейчас был в бешенстве от одной мысли, как смела она убежать. Ее коварство походило на издевательство.
У водопада я услыхал голоса: девица и некто плотного вида, с золотой цепью, похоже — инженер. Он говорил галантно девице, покачивая тросточкой над разбитым в ручейки водопадом:
— Не правда ли, водопад этот — страсть: она свободная мчит, закусив удила, а разбитая исходит потоком слез…
Не задумываясь, не колеблясь, как был, запыленный, в колючках и белом пуху ломоноса, с небритым лицом, я вошел в дом к Ларисе.
— Барыня занята, — ответила мне петербургская горничная, и, как почудилось, с дерзкой усмешкой.
— Мне должно быть исключение, я вечером еду, и мне нужен ответ в Петербург.
Горничная пожала плечами, но через минуту пришла:
— Посидите в кабинете, пока барыня кончит работу.
Я прошел в кабинет и сел на диван. Из соседней комнаты, должно быть будуара Ларисы, дверь была полурастворена. Слышен был стук молотка, какое-то противное дребезжание.
— Барыня выстукивает себе камин, — пояснила горничная и исчезла.
Я видел с дивана белый утренний пеньюар Ларисы. Лицо было скрыто. Конечно, она знала, что я вошел.
Она продолжала свою неприятную работу. Перед ней лежала полоска железа, и по узору, наставляя разной величины долотца, она сверху ударяла молотком.
Противный, раздражающий звук царапал нервы.
Я не выдержал, шагнул в полуоткрытую дверь и схватил Ларису за руку с молотком:
— Вы можете кончить потом, у меня есть дело…
— Дело? — Она усмехнулась. — Если упреки, то оставьте их при себе.
— Я желаю спросить не о себе.
Я осекся. Мои глаза уперлись в большой портрет на стене. Это была знакомая мне увеличенная карточка Михаила юнкером. Огненные глаза его вопросительным укором глянули на меня.
Я сухо спросил Ларису:
— Какой же ответ мне свезти в Петербург? Когда начнете вы хлопотать?
— Я хлопот никаких не начну.
Лариса теперь не стучала, но делала вид, что выбирает узор из кучи наваленных на столе.
— Вы мне сами сказали, что у Бейдемана осталась невеста. Пусть она и хлопочет.
Презрение меня охватило:
— Низкая женская злоба… Но никто ведь не добьется того, чего добиться можете вы, если верить слухам.
Она подняла глаза:
— Договаривайте здешнюю сплетню, тем более что она — правда.
— Правда, что вы были близки с великим князем?
— В той же мере, как с вами, если вы это называете близостью.
Эта женщина, влекущая к себе безглазой, тяжелой земляной силой, была мне сейчас отвратительна. Я видел перед собой одно лицо друга и — увы! — с поздним жаром стал умолять ее взяться за хлопоты. Не помню, что я говорил, но я нашел краски изобразить его жестокую участь в противоположность ее годам свободы и праздных капризов.
— Только подумайте: он сидит в бес-сроч-ном одиночном заключении!
Ни стыда, ни смущения не было на лице ее, когда с непонятной мне горечью вдруг она прервала мое жалкое красноречие.
— Кто знает сроки? — сказала она. — Быть может, я завтра умру и больше не буду ничем наслаждаться. Но хлопотать за свободу того, кто был враждебен той земной жизни, которую я люблю, я не стану.
Дрожа от негодования и ненависти, я сказал:
— Не правда ль, предел этой жизни — лишь козья сторожка…
— Где я вам подобных обращаю в козлов? — с невыразимым презрением оборвала Лариса.
Я поклонился и пошел к дверям.
— Подождите, — вскрикнула она и встала во весь рост. — Запомните на всю жизнь, ведь больше мы не увидимся. Запомните: это вы разбудили во мне обиду и злейшие силы мои. А у меня нет, во имя чего с ними бороться. У козьей жрицы — козий бог. Еще запомните, что в ваших руках было иное: вы могли соединить две наших воли только в заботе о друге. Если б вы были ему верны, и я б оказалась иной. Но вы мне предали Бейдемана. Будьте же вы прокляты, как и я!
Я уехал из Ялты. Последнюю неделю отпуска я пробыл в Севастополе. В ресторане у моря я слышал, как пришедший с пароходом капитан рассказывал о том, что все в Ялте взволнованы происшествием в горах.
— Я держал пари, что эта Лариса Полынова плохо кончит!
— Эксцентричных женщин всегда убивают, если они не догадываются убить себя раньше сами, — сказала ближняя дама.
— Я подозреваю, что тут не без романа с татарами, — вставила дальняя.
— Нет, нет! — защищал капитан. — Хотя ее действительно принесли с гор татары, но это простые, хорошие люди, всем известные пастухи, из которых главный, старик — приятель Ларисы, рыдал, как ребенок. Он рассказал, что она, принеся ему, как всегда, запас нужных лекарств, подарила на память часы. Он показал расписку ее, где написано, что дарит в полной памяти и здравом уме такому-то в знак многолетней дружбы. Умнейшая барыня все обдумала: распоряжение насчет имущества написано отцу Герасиму заказным по почте, просит в смерти своей никого не винить… Татары говорят: она отбежала на край отвесной скалы и у всех на глазах застрелилась, они же ее вытащили с опасностью для жизни и принесли домой на руках. Хотя эти татары все же арестованы, но по следствию их, разумеется, оправдают.
— Уж какой-нибудь виновник да есть, — сказала ближняя дама и случайно глянула в мою сторону.
«Да, я виновник», — подумал я, но вслух сказал, как обычно, лакею:
— Подайте мне счет!
Я пошел далеко по камням туда, где узкая коса клинком врезалась в море.
Я помню: вырезным и бумажным мне показался огромный диск луны, и отражение ее отвратительно. Все было кругом как захватанный и пошловатенький лунный ландшафт над красным бархатным гарнитуром гостиной в провинции. Больная душевная мука выветривала жизнь и красоту из самой природы. Вдруг я ощутил с новой силой, отделяющей меня от всего живого, свое клеймо древнего Каина — мой новый позор предателя.
Да, никем не изобличаемый, как мерзостный хитрый гад, сокрывший себя между трав уподоблением их окраске, предатель угнездился в бессознательных недрах моего существа.