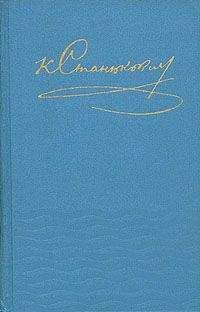Юрий Хазанов - Мир и война
С начала августа Милю Кернер вместе с другими студентками юридического института отправили под Серпухов на полевые работы. Она благополучно вернулась оттуда недели через три, хотя все могло кончиться довольно плохо: как раз в тех местах немецкие самолеты, не прорвавшиеся в Москву, приноровились сбрасывать на обратном пути свой бомбовый груз. Но понятия смерти, как Миля потом рассказывала — своей смерти, не чужой, — видимо, не существовало еще у этих двадцатилетних девушек. Увы, оно было уже не за горами.
В отсутствие Мили, у которой он чаще всего бывал в свободные вечера, Юрий зашел как-то к бывшей однокласснице Асе Белкиной, которую не видел со дня окончания школы. Вернее, с выпускного вечера, после которого усердно тискал на Патриарших прудах ее пышные телеса.
Они остались такими же, что он сразу отметил, лишь только появился в ее жилище, если можно так назвать низенькое каменное строение на углу Спиридоньевского переулка и Бронной, дверь которого открывалась прямо в единственную комнату и где из удобств, не считая клозета, был только кран с холодной водой. А из неудобств — на тот момент для Юрия — асина мать. Поэтому он пригласил Асю зайти на днях к нему в гости, на что та охотно согласилась.
Он приготовил выпивку, кое-какую еду, но Ася, когда пришла, пить наотрез отказалась и вообще была расположена не к «фалованью», как это называлось еще недавно на их школьном языке, но к серьезному разговору. Она хотела узнать, понять… Хотела совета: нужно уезжать из Москвы или можно оставаться? Скоро ли кончится война? Когда именно?.. Ведь Юра военный, лейтенант, он должен знать!..
Да, Юра знал… был уверен: с Москвой ничего не случится, беспокоиться нечего, уезжать никуда не надо.
Но как же, ведь многие уезжают, возражала Ася. Целые учреждения, она знает. Ира Каменец уехала с семьей, Рема, Феля — ее подруги.
Пусть, отвечал Юра, это их дело. Но Москве ничего не грозит, а скоро вообще Красная Армия перейдет в наступление и быстро прогонит немцев. Все, что случилось, результат внезапного нападения, сейчас наша армия уже оправилась от первого удара и сама начинает контратаковать. Так что не надо паники, все переменится к лучшему уже через месяц… Ну, через два…
Он вошел в роль, сам почти верил в то, о чем говорил. Ему, действительно, претили панические настроения, он гнал их от себя самого, что было совсем не трудно, а кроме того, им владело простодушное до жестокости эгоистическое чувство: что будет, если уедут все близкие и приятные ему люди? С кем останется в Москве?.. То же самое, что Асе, он говорил и родителям Мили, и собственными родителям…
К счастью, не все его слушали. Точнее, никто не слушал. Родители Мили эвакуировались с учреждением ее отца в Казань — уже в сентябре. Миля осталась, потому что продолжались занятия в институте. Юрины родители досидели в городе до середины октября, когда немецкие войска были на некоторых участках менее, чем в двадцати километрах от Москвы; только тогда им удалось уехать в ту же Казань. С ними был и юрин младший брат. До сих пор Женя помнит, как до города Горького (Нижний Новгород) их везли на открытых платформах. (Ох, и живуч советский человек!.. Пока не расстреляют.) Бабушку Юрия еще летом отправили в Баку к старшей дочери. Что касается Аси Белкиной, то, когда Юрий вернулся в ноябре в Москву после трехнедельной эвакуации со вторым эшелоном Генштаба в Куйбышев (Самару), то застал в дверях своей комнаты тревожную записку: «Юра, зачем ты говорил, что не надо ехать? Что теперь будет? Прощай. Ася».
(С облегчением должен добавить, что, как Юрию стало потом известно, Ася и ее мать благополучно уехали тогда из Москвы; Ася вскоре вышла замуж за пожилого работника торговли, который через несколько лет попал за решетку за какие-то дела экономического свойства, но как это принято у торговцев и, кажется, уголовников, семье арестованного помогали оставшиеся на воле, так что, когда Юрий случайно встретил Асю, уже после войны, та была не в отрепьях, а в каракулевом манто, и на лице не лежала печать голода. Больше они друг друга не видели…)
В конце августа Юрий столкнулся на Садовой с Олей Фокиной — тоже из их школы — с той самой Олей, кто чуть не с девятого класса, как у них утверждали, жила по-взрослому с губастым Костей Садовским, что не вызывало в ту пору, насколько Юрий помнит, ни зависти, ни одобрения или осуждения, а, как ни странно теперь может прозвучать, лишь легкое недоумение, которое можно, пожалуй, выразить словами: «Ну, к чему им это? Что они, подождать не могут?..»
После школы Ольга поступила в театральное училище, потом не то ушла от него, не то ее исключили — Юрий не знал. Зато знал, что с Костей у них давно все кончено, она, кажется, вышла замуж, Костя тоже собирается жениться. Ольга пригласила Юрия зайти в гости прямо сейчас, она жила где-то недалеко. Юрий согласился: ему нравилась она, хотя они никогда не дружили; нравилась ее старомодно статная фигура, вальяжная, с большой грудью, тонкой талией, покатыми плечами; нравились пепельные волосы, вьющиеся над ушами, легкая курносость, даже ее рост — значительно превышавший его собственный. Это была — по виду — девушка из того круга и тех времен, когда носили платья до пят, шляпы с вуалетками, кружевной зонтик от солнца, длинные перчатки, высокие шнурованные ботинки; когда играли на лужайке в серсо, а внебрачные ранние половые сношения считались немыслимым грехом.
Они шли по Садовой, по Цветному бульвару, свернули на Петровский бульвар. Москва была та же, и не та: казалась полупустой, хотя по-прежнему сновали машины, автобусы, звенели трамваи; было много людей, одетых по-летнему, а потому выглядевших не по-деловому, более интимно — как на юге во время отпусков. Москва и была полупустой: из четырех с половиной миллионов, живших здесь до войны, добрая половина уже эвакуировалась на восток, около шестисот тысяч строили оборонительные сооружения. В самом городе возводились три защитных рубежа: по Окружной железной дороге, по Садовому и по Бульварному кольцу. Окопов и противотанковых рвов, как на подступах к Москве, тут не рыли, но были надолбы, «ежи», мешки с песком, проволочные заграждения. Они уже вписались в московский пейзаж и никого не удивляли. Как и окна, крест накрест заклеенные полосками из газет. Как зенитные и артиллерийские батареи на углах улиц, пулеметные огневые точки, пухлые аэростаты…
Ольга и Юрий свернули на Петровку, он прикидывал, где бы достать выпивку, когда они почти столкнулись с двумя молодыми лейтенантами, которые, судя по виду и громким голосам, в основном уже решили проблему, мучившую сейчас Юрия. Оба были в полевой форме, о которой он так мечтал и которая свидетельствовала, что они из действующей армии, с передовой: петлицы, знаки различия, то есть «кубари», звезды на пилотках — все было защитного цвета; с рукавов сняты нашивки. На поясе небрежно болтался револьвер, изобретенный бельгийцем Наганом еще в 1895 году и сдвинутый к животу, как у американских полицейских из кинофильмов, которых Юрий тогда еще не видел.
— Ты… — сказал ему один из лейтенантов, тот, кто был попьяней. — Торчишь тут в тылу… Сука! Окантовкой блестишь… С бабами ходишь… А мы там…
Глаза у него были бешеные, бессмысленные. С испугом глядя в эти глаза, Юрий не сразу понял, о чем тот говорит. А когда понял, испугался еще больше, но и оскорбился. Захотелось объяснить ему, как человеку, что Юрий сам рвется на фронт, уже не раз говорил со своим военинженером, но тот только отмахивается; а еще Юрий хотел сказать (а может, и не хотел, а потом, задним числом, придумал), что нечего им особенно выставляться — сейчас рискуют жизнью все, кто больше, кто меньше, и ни про кого не известно, что с ним случится на следующий день…
Но Юрий не сказал ни слова, потому что лейтенант рванул из кобуры наган и тихо проговорил:
— Сейчас я тебя застрелю, гада…
Если бы он крикнул, было бы, наверное, не так страшно, но он произнес эти слова тихо и спокойно. Как судебный приговор, который обжалованию не подлежит.
И тут Ольга совершила, может быть, самый смелый поступок в жизни, который она, видимо, до конца не осознала и о котором, к своей чести, никогда не вспоминала — даже встретившись с Юрием через пятнадцать лет в стенах школы, где оба недолгое время учительствовали.
Она рванулась вперед и встала между револьвером лейтенанта и Юрием, закрыв его, в полном смысле слова, своей высокой грудью. При этом смотрела прямо в лицо лейтенанту и говорила сдержанно и ласково, увещевая, словно ребенка.
— Перестань, — говорила она. — Что ты вдруг? Он такой же, как ты. Завтра пойдет туда же… Это мой брат, — зачем-то добавила она.
Второй лейтенант, более трезвый, тоже стал успокаивать приятеля, тянул продолжать путь. Тот пробормотал еще что-то оскорбительное, вложил револьвер в кобуру, и они ушли.
У Юрия дрожали ноги, дрожало все внутри: только сейчас он осознал, что могло произойти минуту назад, после чего не было бы уже ни его, ни Ольги, ни улицы Петровки, ни этой грязно-белой стены старого монастыря.