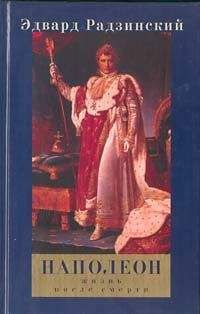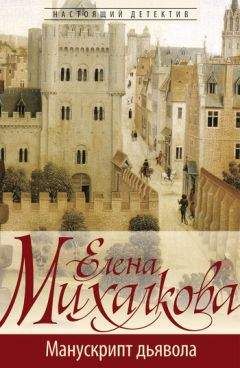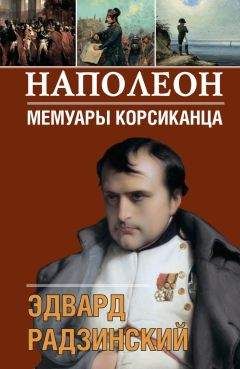Эфраим Баух - Пустыня внемлет Богу
— Человек искренне потрясен этим великим житием, а вам бы лишь брюхо набить да золото копить.
— Пошло-поехало. Сейчас он назовет нас сребролюбцами, у которых вместо сердца камень. Но нам же вставать до рассвета. До полудня предстоит трудный переход.
— А кто вам спать мешает? Вы же эту, как вы говорите, байку не раз уже слышали.
4. История Авраама и Исаака
Тишина ночи таинственно помигивает звездами, печально вздыхают верблюды, кто-то из купцов негромко похрапывает, вполголоса длится беседа. Мерари и вправду устал. К изнурительной проверке в крепости Чеку и нелегкому переходу нежданно-негаданно добавилась эта ночная встреча с незнакомцем, в облике которого и поведении ощущается незаурядная личность, сильный ум, да к тому же велико душевное напряжение, когда рассказываешь об Аврааме. Потому речь Мерари медлительна и даже как-то бесцветна.
Вот являются к Аврааму три путника, как вы, к примеру, он их кормит и поит, только после догадывается, что это Ангелы, и нам завещает: не отказывайте нищему или путнику, это может быть Ангел.
Отрок Исаак несет на плечах дрова для всесожжения жертвы, отец его Авраам держит в руках огонь и обыкновенный кухонный нож для закалывания ягненка или овна (вспомни, Моисей, посещение бойни со жрецом Аненом) и, поднявшись на гору Мория, устраивает жертвенник, раскладывает дрова, связывает сына и кладет его поверх дров, берет в руки нож.
— Зачем? — спрашивает Моисей, подобно широко раскрывшему глаза ребенку пытаясь хотя бы вопросом задержать неминуемую развязку.
— Чтобы заколоть сына своего. Но Ангел воззвал… И вот в кустах овен… Авраам пошел, взял его, принес в жертву вместо сына.
Все так обычно и просто. Авраам спокоен, занят делом: поднял нож, опустил, пошел, взял, возвестили ему с неба, что семя его будет как песок на берегу моря, он и возвратился домой, это совсем недалеко отсюда на север, Беэр-Шева, колодец клятвы.
Оба, не сговариваясь, встают, при свете звезд идут к колодцу.
Моисея эта история не просто опалила — прожгла насквозь странной завистью к участи Авраама, словно бы дано было тому прикоснуться к самому корню жизни и содрогнуться не только всем телом, но и всем духом, всем разумом, на лезвии гибели ощутить разницу между жизнью и смертью, между человеком и животным. Именно об этом он говорит вслух, мучительно желая поделиться этой мыслью с себе подобным, ведь сам эти дни, которым и счет потерял, шел по лезвию между жизнью и смертью. Но тут он спасался, Авраам же шел сам навстречу своей гибели, ведь, принося единственного сына в жертву, гибнешь вместе с ним. А всего лишь был Голос с неба…
— Это не всего лишь, а всё, — загадочно говорит Мерари. И они поочередно набирают ковшами свежую воду из колодца, долго и жадно пьют, и плещет вода на землю, и льется за ворот, на грудь, и эта внезапная неутоленность и плещущие звуки несут в себе сильный порыв жизни из дремотных глубин затаившейся ночи.
— Так знайте, господин мой, Исаак — это колодцы, — голос Мерари помолодел, силы вернулись, — ведь он следил за всеми колодцами, которые отрыли работники Авраама, и сам вместе со своими работниками рыл колодцы. Подумайте вот о чем: отрытый однажды колодец, даже если он завален, остается навсегда шрамом, знаком в девственной плоти земли, знаком жажды человека пробиться к воде, к жизни, особенно в пустыне. А жил Исаак в земле филистимлян, ближе к морю, был весьма богат, была для множества стад его, вот филистимляне от зависти и завалипали все его колодцы. А он их упорно рыл и отцовские расчищал, возвращая им имена их. Это весьма важно — помнить каждый колодец по имени. Отроет колодец, а пастухи местные тут как тут, говорят пастухам Исаака: это наша вода. Назвал этот колодец Эсек, грабеж, ссора. Только отрыл в другом месте — опять местные в спор и драку, наша вода, пришельцы эти обманом ее забрали. Так и назвал он этот колодец: Ситна, поклеп. Нашел более обширное место и новый выкопал, тут уже оставили его в покое. Оттуда и перешел в Беэр-Шеву, и пришли к нему главы филистимлян мириться. И пока они там клялись друг другу, ели-пили, жали руки, работники Исаака колодец отрыли. Он и дал ему имя Беэр-Шева, колодец клятвы. Так-то, господин мой, — Мерари глубоко и устало вздыхает, — всю жизнь Исаака можно проследить по колодцам и добыванию воды живой.
В третью стражу ночи снится Моисею Мернептах в одеждах нищего и выражение страха на его лице: переход от дворцовой жизни к гибельной простоте пустыни подобен глубокому обмороку. Но Моисей летит на колеснице, выхватывает Мернептаха из рук пастухов филистимских, которые еще мгновение — и утопят его в одном из колодцев, вырытых Исааком, и в руках Моисея вместо лука и стрел кухонный нож Авраама.
5. Духовная жажда неутолима
День сменяется ночью, на рассвете опять в путь, и Моисей помогает навьючивать груз на спины верблюдов, с удовольствием поит и кормит животных, так же, как и купцы, часть пути идет пешком, часть верхом. К полудню зной испепеляющ. Кажется, холмы плавятся. Разбивают шатры, и, хотя бурдюки полны водой, разговоры вертятся вокруг одной темы: сколько еще идти до очередного колодца.
Только Мерари и Моисей в какой-то задыхающейся жажде выговориться перескакивают с темы на тему, и все же Моисей больше молчит, стараясь ничего не упустить из рассказов собеседника о племени евреев или, как говорит Мерари, сынов Израиля.
— Откуда у вас, Мерари, такие знания?
— Точно так же я могу спросить вас, откуда вы так знаете письмо — иероглифическое, клинописное, наше, где вы познали законы поведения вод, течений, водоворотов, смерчей в пустыне.
— И все же это как-то не вяжется с образом купца.
— А с образом нищего одинокого путника, вынырнувшего из мрака и присевшего к костру в этих не столь спокойных местах, вяжется? Я ведь по сей день не знаю вашего имени, господин мой.
— Удивительно. Кажется, обсудили все проблемы земли и неба, а я до сих пор имени своего не назвал.
— А я не спрашивал. И вы не спрашивали. Спутники мои окликали меня по имени. У вас-то спутников нет. А мои из деликатности никогда сами не спросят.
Но главное, колодцам имена нужны обязательно, а нам нет. Вы рассказывали об аскетах. Но и такие, как вы, ну, в намного меньшей степени, как я, одинокие птицы, принадлежат к редко встречающейся породе существ, которых еврейский Бог, а другого я не знаю, наделил болезненной любознательностью, неутолимой, я бы сказал, гибельной жаждой добраться до корней мира, ступать по лезвию между жизнью и смертью.
Физическую жажду можно утолить, духовная — неутолима.
Подумайте вот о чем, господин мой: эта пустыня страшна и бесконечна, по краям ее безмолвия обретаются империи — Кемет, Вавилон в Двуречье, Мидия.
Эта пустыня — горнило неотесавшихся народов, накапливающих в своем кочевье, быть может за соседним от нас холмом, свежую силу варварства, которая однажды внезапно, неизвестно откуда вырывается тысячами колесниц, хотя, к примеру, соглядатаи страны Кемет рыщут по всем весям этой пустыни. А ведь гиксосов проглядели. Мы же с вами, господин мой, две песчинки в этой пустыне, встретились. Не пытайтесь убедить себя, тем более меня, что это случайно.
Купцы приползли из соседнего шатра, сидят рты разинув: никогда еще хозяин их и компаньон не был в таком ударе.
— Мне это о гиксосах и соглядатаях уже говорил один человек.
— Значит, и он из той же редкой породы людей, готовых жизнь отдать, но утолить свое любопытство. Поймите, господин мой, мысли эти, как птицы, витают в воздухе, но необходимо особое строение слуха и сознания, чтобы их уловить.
6. Погонщик, пастух или пастырь?
— Давным-давно, когда я сомневался, стоит ли стать купцом, встретил я на одной из дорог нищего еврейского мудреца, которые и сегодня не перевелись, но встречаются реже. Он был ужасно угнетён — днем раньше похоронил друга, такого же нищего мудреца, с которым странствовал многие годы по этой пустыне в поисках смысла жизни и Бога. Меня, конечно же, охватил очередной приступ любознательности. Вдруг он так странно огляделся, посветлел лицом, говорит: это место свято; мы с другом, когда у нас еще водились деньги, наняли однажды двух ослов вместе с погонщиком. Едем себе, обсуждаем проблему Божественного присутствия в мире. Неожиданно погонщик вмешивается в наш спор и выдает такое, что мы, остолбенев, слезаем с ослов, падаем перед ним ниц, а подняв головы, видим, вернее, ничего не видим: исчез погонщик вместе ослами. Так вот, господин мой, встреча эта перевернула мою жизнь: по сей день надеюсь встретить погонщика. Безумие? Может быть. Но вы, господин мой, с первого дня вашей сознательной жизни, сами того не зная, находитесь в поисках этого погонщика.