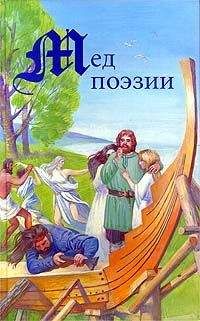Елена Крюкова - Русский Париж
Жизнь моя, жизнь моя. Не покидай меня.
Запыхавшись, подбежала к подъезду. Вот они львы. Держат лапы на мощных каменных шарах.
Простояла у дома всю ночь. Босиком на камнях.
Задрав голову, глядела: этаж под крышей, парижский чердак. Свет в окне.
Холодные губы шевелились. Изредка накрапывал с серых небес ночной дождь.
Ночь шла и протекала. Обтекала Анну, как остров.
Далеко, на краю света, ревели моторы аэропланов.
Свет в окне погас. Анна вконец продрогла.
Губы едва шевелились — стихи вышептывали.
Вздохнула и вслух сказала сама себе:
— Молчи.
Утром консьержка вышла на порог.
— О, мадам! Я за вами в окошечко ночь напролет наблюдала! У мадам горе? Чем помочь?
— Да. У меня горе.
Повернулась и ушла. Чертова кукла. Кукольные, трагические, смешные страсти твои. Обрежь сама все нити, и кукольник не будет дергать за них.
Париж слезной, сырой серой розой пьяно шатался перед глазами.
* * *В эту ночь Семен Гордон убил советского генерала Семена Скуратова, тезку своего. Предателя, гада, сволочь последнюю, так ему с отвращеньем сказали.
Последнее звено в цепочке. Он так и думал.
Отвезли в Медон. Приказали: жди черный «опель», как появится, сразу стреляй. В боковое стекло, в лобовое. Он в автомобиле. Убей его и шофера.
«Служу трудовому народу», — мертвым ртом выдавил. Помял револьвер в кармане.
Понимал: генерал едет с охраной, значит, их в авто трое или четверо. И все — вооружены.
Ночь — глаз выколи. Шорох платанов. Черный «опель» выскользнул бесшумно. Такие уж шины, немецкие. Идет как летит. Притормозил. Семен не ожидал — генерал выскочил из авто, как горный козел! Чувство охоты накатило. «Сейчас уйдет». Семен нажимал на курок слепо, отчаянно. Шесть патронов, всего шесть. Шесть — шансов. Выслужиться перед Совдепией?!
«Это страна будущего. Это страна грядущего счастья всех людей! И я — служу — ей!»
Горячее затопило грудь и горло. Он не слышал выстрелов. Его — ранили?!
Нет. Замутило. «Ты же не впервые убил на войне человека! Это — война! Это только с виду — мир!»
Кинулся бежать. Вот тут услышал: стреляют. Пуля рикошетом отскочила от стены, рассыпался известняк под ногами. Дачные медонские дома спят. Уже — проснулись. Топот, крики, стоны! А он — бежит.
Ему удалось удрать. Не поймали.
Медленно поднимался по лестнице. Запоздалый страх прошиб, пригнул. Еле нашарил ключом замочную скважину. Ввалился. Анна сидела за столом в гостиной. Одетая. Видно: не спала, не раздевалась. Посуда вымыта. От гостей духу не осталось. Девочкам постелила на диване, им — на полу. Стоял в дверях, чувствовал себя с затылка до пят выпачканным в крови.
На войне с немцем не так было. Там толпа солдат в атаку бежала. Там — все стреляли, не он один. Хором — не так гадко. За царя сражались! А теперь — за кого?
«Что тебе, именно тебе сделал несчастный генерал? Теперь поздно скрипеть зубами».
Анна сидела, как сыч, над монетами и купюрами. Деньгами был устлан голый стол. Анна сгребала монеты в ладонь с отскобленных ножом дожелта деревянных плах.
— Откуда? — только и смог выдавить.
Подняла голову. Невидяще глядела.
— Рауль оставил. Подарок Тарковской.
— И мне за дежурство заплатят.
Встала. Повернулась к деньгам спиной. Лопатки вздрагивали под суровой тканью.
— Ты бледен. Руки трясутся. Голоден?
Ласковей со зверями в зверинце говорят.
— Дай, что от обеда осталось.
Положила ему на тарелку кусок розовой форели. Села напротив. Смотрела, как он ест.
* * *Назавтра все французские газеты пестрели черными шапками:
«УБИТ РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ СКУРАТОВ!»
«ГЕНЕРАЛ СЕМЕН СКУРАТОВ ПОЛУЧИЛ ПУЛЮ В ЛОБ ОТ РУКИ НЕИЗВЕСТНОГО».
«РУКА МОСКВЫ ДОТЯНУЛАСЬ ДО МЕДОНА».
«УБИЙСТВО В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ: НКВД, БАНДИТЫ ИЛИ ЛИЧНАЯ МЕСТЬ?»
Семен сидел на диване, облапил подушку, странно, по-детски. Улыбался тихо, почти умалишенно. Трясся.
— Ты захворал? — спросила Анна. Накапала ему капель сердечных.
— Простудился. Ветрено нынче в Париже. Даром что на севере живем, а дует ветрюга, что тебе мистраль.
Вечером соседка злорадно газетку свежую под дверь подсунула. Анна вытащила, развернула, глаза скользили по свинцовым строчкам сонно, равнодушно. Проклятые газеты. Зачем шуршит вонючими листами? Читала — и не понимала:
«ЕВРАЗИЕЦ СЕМЕН ГОРДОН ПРИЧАСТЕН К УБИЙСТВУ СОВЕТСКОГО НЕВОЗВРАЩЕНЦА, БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛА БЕЛОЙ ГВАРДИИ СЕМЕНА СКУРАТОВА».
Отказывалась понимать. Отказывалась — принимать.
Газета упала, закрыла колени, на пол соскользнула. Семен за столом, она видит его затылок.
— Сема! — позвала тихо.
Он не обернулся.
— Сема, правда?
Не заметила, как рядом оказался. Руки ее мял в руках, шею, плечи целовал. Прижимался лицом к ее груди. Ну ребенок и ребенок. Третий ребенок ее, взрослый, седой уж, виски седые, сивые. И волосы — перец с солью.
Глава десятая
Рауль Пера и Игорь объединили усилия. Устроили творческий вечер Анны.
Упросили подешевле снять зал в Русском центре на Буассоньер.
Анна небрежно бросила Семену: «Приглашай своих генералов! Я у тебя, на Буассоньер, выступаю!». Семен побелел.
Билеты самодельные, цены смехотворные, грошовые. Много билетов наделали Аля с японкой и индуской, настригли ножницами. Ходили, продавали — на улицу Лурмель, в русскую столовую матери Марины, в русскую церковь на рю Дарю, в русскую библиотеку барона Черкасова; хотели в Сент-Женевьев-де-Буа съездить, да дорого дорога выходила. И так хватит, сойдет. Хорошо наторговали, думала Аля, и себе ужасалась: «Как купчиха радуюсь!». Насобирали шестьсот франков. Богатство!
Приложить к деньгам княгини — так просто Крезы они. Можно жить в Париже на широкую ногу!
Сколько? Два месяца? Три?
Мать все равно будет экономить. Жилы надрывать, из кожи вылезать.
Анна стояла перед зеркалом, полунагая, в нижней льняной юбке и тонкой камисоли. Бретельки врезались в плечи. Прикидывала к себе одно платье, другое. Платьев раз, два и обчелся. И все — мешки: для удобной ходьбы, широкого шага. А нарядное, праздничное — одно. Вот оно! С глубоким вырезом на спине. Видны лопатки и весь хребет, до поясницы. Юбка чуть ниже колен. И хорошо, не будут торчать, острые. Семен купил: на распродаже для бедняков, а модное, не хуже чем от Додо Шапель!
Волновалась. Щипала щеки: может, зарозовеют! Косметикой не пользовалась никакой и никогда — сама всегда была цветная. А здесь, в Париже, стала — серая моль. Пепел волос. Зелень глаз потухла. Засияет ли когда?
— Мама, время! Вы опоздаете!
Девочки — вот кто праздник живой. В тряпочках жалких — а будто цесаревны! Свежесть юности.
До Буассоньер добирались на метро. Анна боялась входить в вагон. Звенел колокольчик, двери закрывались с жутким шипеньем. И улицу боялась переходить: автомобили внушали ей ужас. Аля смеялась: мама, а как же вы сядете в самолет, если надо вдруг будет лететь в Америку?
«Я уже никогда никуда не полечу. Я умру в Париже».
Эта мысль отчего-то придала ей силы. По лестнице Русского центра взлетела, девочки еле за ней поспевали.
В зале за роялем сидела грустная белобрысая девушка с длинными косами, бегущими по спине. Играла Рахманинова. «Ученица Парижской консерватории», — шепнули Анне. Она пожала плечами: пусть играет!
Народу полно. И еще прибывал. Аля правильно захватила с собой лишние билеты: Изуми посадили у двери в зал, она продавала входные.
Господи, идут и идут! Анна не ушла за кулисы — сидела в первом ряду, глядела вполоборота на публику. Вот актриса Дина Кирова, и князя своего Федора под ручку ведет. Ах, сдал, состарился князь! Вот Валя Айвазян, милая, славная. Она на Первой мировой на фронте была, сестрою милосердия. Жаль, раны, как ордена, никому не показать! Вот знаменитая на весь Париж Танька Родионова, везет-катит кресло-коляску со своим увечным мужем Шарлем Дереном, бывшим спортсменом; Танька, бывшая шлюха, дамочкой глядится, посещает все русские сборища, везде нос сует, все ей интересно. Толстуха неграмотная, а туда же — в высшее общество! Да все к ней в русском Париже привыкли, все считают своей.
Боже мой. Анна закусила губу. И эти здесь. Явились, не запылились. Букман, Розовский! Вы же в Праге остались! Ан нет, уже в Париже. Как магнитом сюда притянулись. Париж всех приютит. Ну как же, им донесли: вечер Анны Царевой! Поглядеть на нее пришли, поизучать: постарела ли, подурнела. Букман из чернявого прыткого юнца превратился в обросшего черной бородой скорбного хасида. Офицер Розовский военной выправки не потерял. В мундире заявился. Сюда, в гнездовье НКВД — в белогвардейском мундире! Смельчак. Что хочу, то и ворочу! Плевать советские хотели на этот белый маскарад. Искал глазами глаза Анны. На миг прервалось дыханье. Ему она посвятила «Литургию оглашенных».