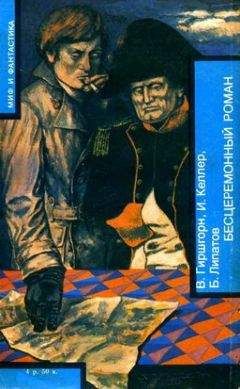Игорь Лощилов - Отчаянный корпус
И так запала ему в голову эта мысль, что он решил ее во что бы то ни стало воплотить в жизнь, причем сам, своими собственными силами, чтобы славой спасителя Отечества ни с кем не делиться.
Стал он осторожно говорить с Селимом — зачем-де нужен здесь такой человек, который стороны смущает и существующий мир намерен разрушить? Нашим народам это вовсе даже ни к чему. Селим сначала держался сторожко, потом стал поддакивать, и в конце концов пришли они к общему соглашению — такой человек для нашего края действительно не надобен. Тогда Снегирев предложил: давай-ка его украдем и увезем подальше, чтобы своими разговорами он местных людей более не смущал. А за помощь в этом деле пообещал Селиму десять пар новых солдатских сапог. Селим сразу ответа не дал, обещал подумать — боязно на отмеченного Аллахом человека руку поднимать.
— Мы ему вреда не причиним, — уверял Снегирев, — просто увезем из здешних мест, зато мир не разрушим и тебя на всю жизнь обуем.
Селим долго думал и все загибал пальцы, наконец решительно сказал:
— Пятнадцать!
— Чего? — не сразу понял Снегирев.
— Пятнадцать пар сапог, — уточнил Селим результаты подсчета оставшейся жизни.
На том и сговорились.
Был уже конец октября, еще не совсем холодно, и многие деревья оставались в листе. Дела решили не тянуть.
И вот однажды ранним утром Снегирев тайком уехал за Линию, как о том предварительно и договорился с Селимом. Путь обещал быть недолгим. Только въехал в урочище, его остановили. Осмотрелся Снегирев, а вокруг не менее дюжины горцев, смотрят и довольно улыбаются: якши, говорят, якши.
Но улыбки эти оказались вовсе не знаком гостеприимства — обрадовались, что русского офицера поймали. Связали его, прикрутили к седлу и куда-то повезли. Как оказалось, повезли к одному из помощников Шамиля — Абдулле. Это был маленький человечек, бритоголовый, с крючковатым носом и густыми кустистыми бровями, из-под которых выглядывали маленькие злобные глазенки. Посмотрел он на пленного русского офицера и довольно осклабился.
Оказывается, попытки похищения Шамиля предпринимались неоднократно, и тот, чтобы обезопаситься, организовал свою охранную службу. Ее-то и возглавлял этот самый помощник. Разговор с пленником был у него короток. Приказал своим нукерам загудеть в гнусавые рожки, по звукам которых стал собираться народ. Начали они молиться и по кругу ходить, как лошади на выездке, а Снегирева привязали к столбу. Не для потехи привязали — для позора, мальчишки стали бросаться камнями и мусором, норовя засыпать глаза. Какая-то древняя старуха пару раз своей клюкой потыкала в него, но те, которые не скакали по кругу, стояли молча.
Вдруг все стихло, и Абдулла заговорил. Снегирев слов не понимал, но чувствовал, что разговор плохой и жить ему осталось совсем ничего. Стал он тогда молиться, а между привычными словами думал: зря он затеял это дело в одиночку и все потому, что хотел своему бывшему кадету нос утереть, то есть от глупого тщеславия. Он довольно равнодушно смотрел на дикие движения чеченцев, памятуя, что просить их о чем-либо бесполезно и нужно приготовиться к тому, чтобы умереть, как подобает русскому офицеру.
Абдулла закончил речь. Хищно ощерившись, он сделал возле пленника несколько ходок, пританцовывая и потряхивая изгибающимися руками, потом выхватил из-за пояса кинжал и полоснул поручика по горлу. Брызнула кровь, толпа издала торжествующий вопль и неистовствала, пока Абдулла водил по горлу своим кинжалом. А когда он взмахнул отрезанной головой, зашлась в диком безумии.
Так бесславно оборвалась жизнь поручика Снегирева. Впрочем, следует отдать ему должное: чести русского офицера он не посрамил, до предсмертной мольбы перед палачами не унизился и умер достойно.
А через некоторое время какой-то оборванец из-за Линии подъехал к сторожевой будке, стоявшей у въезда на заставу, и бросил окровавленный бурдюк — в нем, когда открыли, находилась голова поручика Снегирева.
Петя поднял заставу в ружье и послал в станицу за казаками. В ожидании их прибытия то, что осталось от поручика, предали земле и на могиле поклялись отомстить за мученическую смерть своего товарища. А когда прибыли казаки, общими силами двинулись в аул, где совершилась кровавая казнь.
Дело шло к полудню. На подъезде к аулу рассредоточились и напали сразу со всех сторон. Людей вытаскивали из щелей, как тараканов. Бить не били, разве только тех, кто сильно упирался. И вскоре согнали всех к тому самому месту, где они недавно водили свои хороводы и издевались над русским офицером.
Петя приказал привести Икрама. Испуганный старик пал на колени.
— Как твои люди допустили казнь русского офицера? — строго спросил Тихонов.
— На нас нет вины, — возопил старик, — всем распоряжался Абдулла и его подручники.
Петя приказал схватить всех, причастных к злодеянию, однако с ними разговор не получился. Они бросали на русских злобные взгляды и тихо молились.
— Та чого з ними нянькаться? — воскликнул казачий есаул. — Зараз усих в воду покидаемо, пущай тама с рыбами в молчанку играють.
— Делай как знаешь! — отозвался Петя, в роли палача ему выступать не хотелось, но и прощать бессмысленную казнь русского офицера он был не намерен. Только подумал: жил человек не в радость окружающим и умер позорной смертью — не награда ли это за такую вредную жизнь? Но эту мысль он от себя тут же отогнал.
Тихонов возвращался на заставу в подавленном состоянии. Его мало беспокоила судьба извергов, отданных казакам. У тех сложились с горцами своеобразные отношения, в которых жестокость сочеталась с великодушием, так что постороннему человеку в них было трудно разобраться. Всю ночь провел он в раздумьях. Вспоминалась кадетская жизнь и его столкновения с Снегиревым — в то время противнее существа на свете для него не существовало. И то, что случилось потом, тоже диктовалось недружественным по отношению к нему актом. Однако никакого злорадства он не испытывал.
Утром капитан Тихонов отправился в полк и обратился к начальнику штаба с просьбой написать представление о награждении поручика Снегирева, причем изложил подвиг погибшего в самых радужных красках. Через некоторое время на столе командующего появилось представление на поручика Снегирева. Вспомнил Воронцов о его доносе и после недолгих раздумий начертал:
«Beatitudo non est virtutis praemium».[3]
Не поднялась у боевого генерала рука, чтобы наградить доносчика.
Намерению Воронцова установить мир на Кавказе одним мощным ударом не суждено было свершиться. Пришлось вернуться к изначальному плану Ермолова — постепенному вытеснению горцев с плодородных долин и переманиванию на свою сторону их вождей. Повсюду застучали топоры, вырубались леса, учреждались новые заставы и станицы. Такая работа не требовала наличия многочисленного войска и масштабных военных действий, поэтому часть дивизий и полков Кавказского Корпуса была отозвана в Россию.
Но капитан Тихонов предпочел остаться.
В дальнейшем на его счету накопилось немало славных дел, он уже считался опытным боевым офицером и эту славу подтвердил в последовавшей вскоре новой Кавказской кампании. В бою при Нигоети его батальон прорвал боевой порядок турецких войск, чем определил успех всего дела, за что Куринский полк получил георгиевское знамя, а сам Тихонов удостоился новой награды.
Дальнейшую судьбу нашего героя проследить не удалось. На одном из кладбищ Даниловского монастыря под обелиском из серого гранита покоится прах генерала Петра Ивановича Тихонова. Полустершаяся надпись гласит:
Он проявлял доблесть в бою
И справедливость в миру,
Да воздастся ему должное!
Тот ли это Тихонов или его однофамилец, сказать трудно. Их немало, скромных ратных тружеников, воспитанных кадетскими корпусами. А если еще учесть негромкую фамилию и имя с отчеством, на которых держится добрая половина России?
Да будет им вечная слава!
Последний парад
Ваня Воробьев рос сиротою. Мама говорила, что отец Вани погиб в борьбе с басмачами еще до его рождения. Сама она работала секретарем у какого-то военного чина с четырьмя шпалами, была занята с утра до ночи, и Ваня приучился полностью обслуживать себя сам. Учился он хорошо, увлекался радиоделом, с хулиганьем не водился и без особых трудностей дошел до восьмого класса.
Наступило время определяться с профессией, что у Вани особых затруднений не вызывало, ибо он давно уже решил стать военным. А тут, на его счастье, организовались специальные артиллерийские школы, куда принимали как раз с восьмого класса. Мама не возражала, военную публику она уважала. Ее начальник оказал содействие — позвонил кому надо, и Ваню приняли без всяких мытарств. Он с гордостью надел военную форму — на черных петлицах зеленой гимнастерки красовались скрещенные пушки и надпись «СШ».