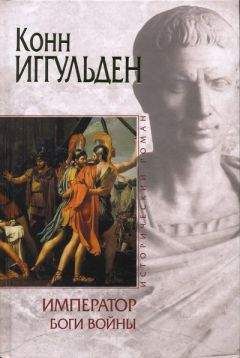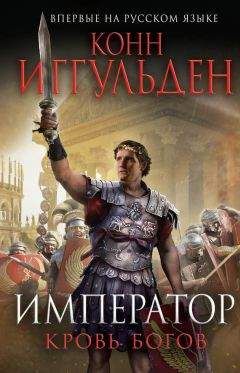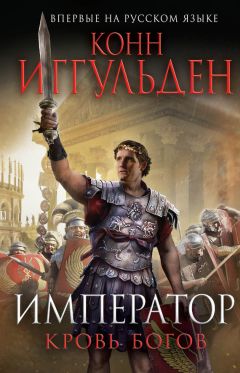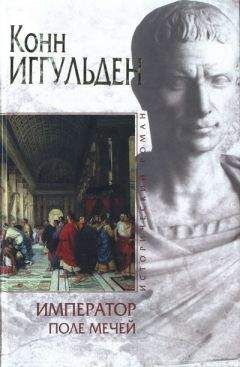Виктор Гюго - Девяносто третий год
Идеалы, к которым стремятся архитекторы, часто бывают весьма странного свойства. Архитектор, прокладывавший улицу Риволи, поставил себе идеалом траекторию пушечного ядра; архитектор, составлявший план города Карлсруэ, имел идеалом раскрытый веер. Громадный комодный ящик — вот, по-видимому, каков был идеал архитектора при устройства зала, в котором Конвент открыл свои заседания 10 мая 1793 года: длинный, широкий и плоский — вот каков был этот зал. Позади одной из длинных сторон этого параллелограмма был устроен полукруг; здесь стояли амфитеатром скамьи депутатов, без столиков или пюпитров. Гаран-Кулону{215}, имевшему привычку много записывать, приходилось писать на своем колене. Напротив скамеек стояла ораторская трибуна; перед трибуной — бюст Лепеллетье де Сен-Фаржо{216}; позади трибуны — президентское кресло. Голова бюста несколько возвышалась над краем трибуны, из-за чего его впоследствии отсюда убрали.
Амфитеатр состоял из девятнадцати полукруглых скамеек, слегка возвышавшихся одна над другой; скамьи стояли также и в обоих углах, вправо и влево от амфитеатра. Внизу, у подножия трибуны, сидели и стояли приставы собрания.
По другую сторону трибуны, в раме из черного дерева, висел на стене громадный картон, девяти футов высотой, на котором в два столбца, разделенных подобием скипетра, начертаны были так называемые «права человека»; по другую сторону было пустое пространство, которое впоследствии было занято такою же картонною доскою, с начертанною на ней, также двумя столбцами, разделенных мечом, конституцией II года. Над трибуной, то есть над самой головой ораторов, развевались на больших шестах, прикрепленных к переполненным народом трибунам, три громадных трехцветных флага, свешивавшихся концами над чем-то вроде алтаря, на котором было начертано слово: «закон». Позади этого алтаря возвышался, в виде стража свободного слова, громадный пук ликторских прутьев, высотой с добрую колонну. Вдоль стен стояли громадные статуи, обращенные лицом к народным представителям. Направо от президента стояла статуя Ликурга{217}, налево — статуя Солона{218}. Над местами, занимаемыми «горой», виднелась статуя Платона{219}. Пьедесталами для этих статуй служили простые кубы, положенные на длинный выступ стены, тянувшийся вдоль всего зала и отделявший публику от собрания. Зрители облокачивались на этот выступ.
Рамка из черного дерева, в которую вставлены были «права человека», доходила до карниза и отчасти закрывала надкарнизные фрески, нарушая прямую линию карниза, что приводило в негодование Шабо и заставляло его говорить на ухо соседу своему Вадье{220}: «Как это безобразно!» Над головами статуй вперемежку были размещены дубовые и лавровые венки.
Зеленый занавес, на котором намалеваны были более темно-зеленой краской такие же венки, спускался крупными прямыми складками с бокового карниза и закрывал всю нижнюю часть зала, занятого собранием. Стена над этим занавесом была голой и белой. В эту стену углублялись выдолбленные, точно резаком, без всяких украшений и завитушек, два яруса трибун для публики, внизу — четырехугольные, вверху — круглые; согласно существовавшей тогда моде, архивольты{221} были помещены над архитравами{222}. В каждой из обеих длинных стен зала было по десяти трибун, а на каждой из двух их оконечностей — по громадной ложе; итого — двадцать четыре ложи. Тут-то и толпилась публика.
Зрители нижних трибун взлезали на балюстрады и на все архитектурные выступы. Длинная железная полоса, крепко вделанная в стену на высоте половины человеческого роста, служила перилами для верхней галереи и защищала зрителей от падения вниз, в случае напора толпы. Один раз, однако, кто-то из зрителей свалился-таки вниз и упал прямо на епископа из Бовэ Моссье. Так как он не убился, то воскликнул: «Вот и епископ на что-нибудь пригодился!»
Зал Конвента мог вместить в себя до двух тысяч человек, а при некоторой тесноте — и до трех тысяч.
Конвент заседал два раза в сутки: днем и вечером.
Спинка президентского кресла была круглая, с позолоченными гвоздями. Ножки его стола были сделаны в виде четырех крылатых чудовищ, которые точно вышли из Апокалипсиса для того, чтобы присутствовать при революции; они как будто выпряжены были из колесницы Иезекииля{223} для того, чтобы тащить телегу палача Сансона{224}. На президентском столе стояли большой колокольчик, размером почти с колокол, громадная бронзовая чернильница и лежала большая, переплетенная в пергамент книга — протоколы заседаний. На этом же столе виднелись пятна крови; накапавшие сюда из принесенных в заседание на пиках отрубленных голов.
К ораторской трибуне вели девять довольно неудобных ступеней. Однажды, поднимаясь по ним, Жансонне споткнулся и воскликнул:
— Да ведь это настоящая лестница на эшафот!
— Учись и тренируйся! — крикнул ему Каррье{225}.
Там, где стены казались слишком голыми, преимущественно в углах зала, архитектор поместил, в виде украшения, пуки прутьев с высовывавшимися секирами. Направо и налево от ораторской трибуны на цоколях стояли громадные канделябры в двенадцать футов высоты, на двадцать свечей каждый. В каждой из трибун для публики было по такому же канделябру. На цоколях были высечены круги, которые народ называл «ошейниками гильотины».
Скамьи собрания возвышались амфитеатром почти до самых карнизов трибун, так что народные представители и зрители могли удобно беседовать между собой. Выходы из трибун вели в целый лабиринт коридоров, в которых обыкновенно стоял невообразимый гул.
Конвент не только занимал весь дворец, но волны его доходили даже до соседних домов — Лонгвилля и Куаньи. В последний из этих домов, если верить письму лорда Брэдфорда, после 10 августа перенесена была королевская мебель. Потребовалось целых два месяца для того, чтобы очистить от нее Тюильри.
Различные комиссии Конвента разместились в окрестностях зала заседаний: в павильоне Равенства — комиссии законодательная, земледельческая и торговая; в павильоне Свободы — комиссии морская, финансовая, колониальная, ассигнационная и Комитет общественного спасения; в павильоне Единства — военная комиссия. Комитет общественной безопасности сообщался прямо с Комитетом общественного спасения темным коридором, в котором день и ночь горел фонарь и в котором постоянно толкались шпионы различных партий, переговаривавшиеся шепотом.
Скамьи, на которых заседали члены исполнительной власти, неоднократно перемещались. Обычно они стояли справа от президентского кресла. На обоих концах зала были невысокие двери, в которые входили и выходили члены Конвента.
Этот зал, днем скудно освещаемый узкими окнами, а вечером и того хуже — слабым светом свечей, имел чрезвычайно мрачный вид. Дневные и, в особенности, ночные заседания носили в себе какой-то зловещий характер. Депутаты, сидевшее направо и налево, не могли разглядеть друг друга и впотьмах перебрасывались оскорблениями. Даже сталкиваясь лицом к лицу, они часто не узнавали друг друга.
Однажды Леньело{226}, спеша к трибуне, сталкивается с кем-то в проходе.
— Извини, Робеспьер, — говорит он.
— За кого ты меня принимаешь? — отвечает хриплый голос.
— Ах, извини, Марат, — поправляется Леньело.
Внизу, направо и налево от председателя, находились две привилегированные трибуны. Как оно ни странно, даже в таком архидемократическом учреждении, как Конвент, бывали привилегированные посетители. Только эти трибуны украшены были драпировкой, перехваченной посредине позолоченными шнурами с кисточками. Трибуны для народа были без всяких украшений.
Вообще вся эта обстановка носила на себе характер чего-то сурового, свирепого, аскетического. Суровость в свирепости, — таков, впрочем, и был характер революции. Зал Конвента представлял собою лучший образец того, что художники с тех пор называли «архитектурой месяца мессидора». Все было массивно и в то же время хрупко; строители той эпохи принимали симметричность за красоту. Последнее слово стиля «ренессанс»{227} сказано было при Людовике XV, и с тех пор наступила реакция. Благородство стиля доведено было до приторности, а его чистота — до скуки. И архитектуре свойственна суровая неприступность. После ослепительных оргий форм и красок восемнадцатого века искусство как бы наложило на себя пост и не отступало от прямых линий. Такого рода прогресс ведет в конце концов к безобразию, и произведение искусства превращается в скелет. Избыток трезвости и сдержанности тоже имеет свои неудобства: стиль становится до того скромным, что дурнеет. Отрешившись от политических страстей и глядя только на архитектуру этого здания, нельзя было не чувствовать некоторого трепета. Невольно вспоминался прежний театр, разукрашенные гирляндами ложи, потолок, расписанный золотом по синему фону, граненые люстры, жирандоли{228} с алмазными переливами, сизые драпировки цвета голубиного горла, вся эта масса амуров и нимф на занавесе и на драпировках, вся эта королевская любовная идиллия, расписанная, позолоченная и разнообразная, озарявшая своей улыбкой это место, сделавшееся теперь таким суровым — и затем взор переносился к торчавшим всюду прямым углам, холодным и режущим, как сталь. Это было изящное произведение истинного художника Буше{229}, обезглавленное бездарным Давидом.