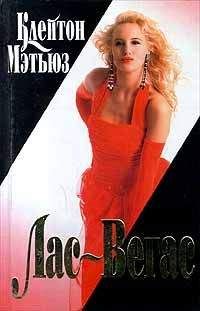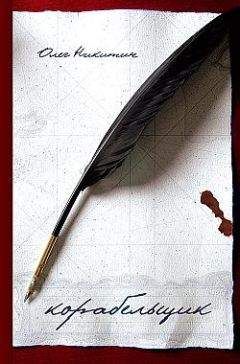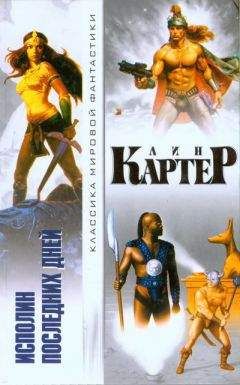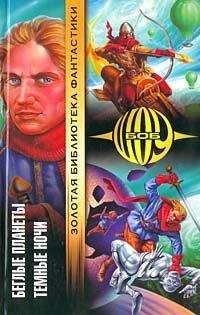Владислав Бахревский - Столп. Артамон Матвеев
— Нанизывай все перстни, какие есть, — со смешочками приказывал младшему брату перед дальнею дорогой Степан Тимофеевич. — Нас в Москве с великим почётом встретят, пожалуют, как никого не жаловали. На весёлое дело везут нас, Фролка, на великое! Не бледней, дурак! Пусть дрожь пробирает собак-руколизов.
И вот теперь чем ближе был Стенька к Москве, тем теснее становилось на московских улицах. Полки иноземного строя поставлены в Кремле. Московские городовые дворяне заняли дороги, подтягивались дворянские конные отряды из других городов, их разводили по царёвым подмосковным сёлам, размещали вдоль Москвы-реки, ведь разинцы воевать на воде великие мастера. Одно небо оставалось свободным от царских стражей.
Утром 3 июня Алексей Михайлович позвал к себе на Верх Артамона Сергеевича. Лицо озабоченное, глаза опоры ищут.
— Привезли, — сказал царь чуть не шёпотом. — Слава Богу, всё тихо.
Артамон Сергеевич смутился:
— Прости, государь, я не знаю ничего. Разина привезли? Где же он теперь?
— В пяти вёрстах остановили... Давай-ка посоветуемся, каков въезд должен быть. Тайностей, думаю, тут не надобно. Пусть народ видит: вот он, вор, всеми оставлен, немощный, мерзкий... Весь в государевой власти... Ну а всё-таки, знаешь, бережёного Бог бережёт. Привезли-то в дорогом платье, в золоте, в каменьях. Что старший брат, что младший. Я приказал одеть и самого Стеньку, и Фролку в худшее из худшего. Выбрать на папертях рвань, дыру на дыре, и обменять. Нищим — по молитвам их, в шелка, а разбойников — по достоинству.
— Ну уж коли Стенька хотел удивлять народ богатством платья, удачей своей воровской, — платья нищего ему как раз впору.
— Так ты согласен! — обрадовался Алексей Михайлович. — А везти как? Князь Долгорукий, Юрий Алексеевич-то, советует поставить на телегу столб, и к тому столбу прикрутить с одной стороны Стеньку, с другой Фролку, чтоб все видели. А пятки им по дороге калёным железом прижигать, чтоб орали на всю Москву.
— Не надо! — вырвалось у Артамона Сергеевича. — Послы на всю Европу разнесут. Они и нынче-то Россию пугалом выставляют.
— Но уязвить-то воров надобно! — вскипел Алексей Михайлович.
— Пусть Стенька будет привязан не к столбу, а к виселице. Фролку — на цепь да к телеге, кобельком чтоб бежал.
— Кобельком! — Царь согласно кивнул. — Один под виселицей с петлёй на шее, а другой — кобельком. Пусть поглядят... А привезём-то уж завтра. Сегодня поздновато... Телегу-то протянуть через Красную площадь и к Пыточной башне.
— Так будет воистину сурово, без крику-то, — сказал Артамон Сергеевич.
— А допросить Стеньку да и брата его должен человек умом быстрый. Князь Юрья Алексеевич — зело горяч, как бы до смерти не умучал. Давай уж ты, Артамон... На два дня отдаю воров в твои руки. Казнь — шестого. Тянуть-то тоже боязно. Упаси Бог, сговорятся да отбивать кинутся...
— Некому отбивать, государь. Присмирел народ. Шапки скидывает, едва в конце улицы появишься. А когда на Волге города падали — глядели глаза в глаза.
— Глаза в глаза, — согласился государь. — Народец-то русский тихоня, а пальца в рот не клади. Не забуду, как в Соляной-то бунт меня за грудки хватали. Бориса Ивановича... требовали выдать головой. Да и в Медный бунт... Лошадь под уздцы, глаза волчьи... Я всё помню.
— Князь Юрий Алексеевич разбойное удальство с кореньем повыдергал. На казнь всю Москву надо собрать. Чтоб сказок-то потом не сказывали о чудесном спасении.
— Потому и прошу тебя, сбереги Стеньку для казни.
— Исполню, государь! А у меня есть чем порадовать твоё величество. Приехал нынче бывший молдавский логофет Спафарий. От патриарха Досифея к тебе прислан, в толмачи и для перевода греческих книг.
— Приветь. — Государь был иным озабочен.
«Неужто разбойник и теперь ему страшен?» — изумился Артамон Сергеевич.
Царь словно услышал нечаянную мысль. Строго посмотрел. Морщинка пересекла чистый лоб.
— На Мефодия и Кирилла в Астрахани злобные тати бросили с раската владыку Иосифа, убили и князя Семёна Ивановича Львова, Стенькиного названого брата. В Астрахани хозяин атаман Ус, а другой атаман, Федька Шелудяк, к Симбирску идёт. Всё начинается сызнова.
От царя Артамон Сергеевич помчался в Новодевичий монастырь навестить домну Стефаниду: хотелось предстать перед мудрым Спафарием человеком заботливым, помнящим о Молдавии.
Привёз домне жалованье, как всегда задержанное, и подарок якобы от супруги, от Авдотьи Григорьевны: часы с музыкой, с танцующими рыцарями и дамами.
Домна Стефанида выглядела усталой. Деньги приняла с такою безнадёжностью, словно ей змею поднесли. Часам улыбнулась. Обронила:
— Вы добры ко мне.
— Что вас тревожит, государыня? — изобразив на лице озабоченность, спросил Артамон Сергеевич. — Положитесь на меня, я готов служить вашей светлости.
— Моя судьба у Бога! — воскликнула домна. — Я ехала в Россию за участием и обрела монастырь. Сёстры меня любят, сёстры молятся обо мне.
— Вас угнетает монашеская жизнь? Тут, должно быть, строгости?
— О, не волнуйтесь! Я гуляю в саду, здесь река, птицы... С иными птахами у меня дружба, берут крошки с руки. Мне чудится, что на зиму они улетают на мою родину.
— У вас светлая душа, если птицы вас любят.
— Мне Господь много дал, да счастьем обделил.
— Ах, знали бы вы, с кем у меня сегодня встреча назначена, — сказал Артамон Сергеевич, раскланиваясь. — Смею надеяться, уж это известие вам непременно будет в радость. Приехал логофет вашего супруга Спафарий Милеску.
— Ах, Господи! — Домна поднесла к глазам платок.
— Он сегодня же будет у вас, — пообещал Артамон Сергеевич.
Уже в карете его так и подбросило: а знает ли домна, что это он, пекущийся о её судьбе, похититель её счастья? Ведь всерьёз надеялась попасть в царицы. Если знает, то как держится! Истинная государыня... Впрочем, много ли его вины в том, что Бог судил, как судил? Коли бы Алексей избрал Стефаниду, кто бы ему поперечил?
В церквях кончились службы, народу на улицах было много. Артамон Сергеевич вглядывался в лица рослых мужиков и парней: неужто все эти набожные на вид люди — затаённые сторонники Стеньки? Что он такое, Стенька? И уже не терпелось видеть перед собою поверженного ниспровергателя вечных устоев.
Усилием воли отстранил от себя завтрашнее. От худого никуда не денешься, так хоть порадовать сердце нынешней желанной встречей. Спафарий человек в Европе известный, по дороге в Москву был принят польским королём. Из Пскова, где Спафарий ожидал разрешения на въезд в Москву, сообщали о грамотах, какие при нём: одна от патриарха Досифея, другая от великого драгомана Порты Николая Панагиота. Рекомендатели достойнейшие. К этому псковский воевода прибавлял: русского языка, отправляясь в Россию, Спафарий не знал, но пока жил во Пскове за две недели преуспел на удивление: всё понимает, помаленьку говорит, славянские же книги читает любо-дорого.
Артамон Сергеевич чувствовал — волнуется: ладони вспотели. Всё великое у человека, к которому торопился, в прошлом: боярин и логофет, посол шведского короля к королю французскому... Знает подноготную сераля, богат родственными связями в Молдавии, в Турции. Однако не это было дорого и даже не учёность. Спафарий жил в Константинополе, в Иерусалиме, в Стокгольме, в Бранденбурге, в Штеттине, не говоря уж о Париже, о Варшаве, о Кракове, о Яссах... Восток и Запад — все чудеса мира отражались в глазах сего пришельца, с таким хотелось говорить и слушать, слушать.
Войдя в свою палату, Артамон Сергеевич окинул придирчивым взглядом итальянские стулья вдоль стен. Подумал: «Глупо. Зачем столько и так далеко от стола?» Глянул на бумаги — показалось жидко, вывалил на стол столбцы из сундука. И покраснел как рак: «Дурость!» Всё убрал, оставил один лист, но и его кинул в сундук.
— Зови!
Подьячий, ожидавший приказания, исчез.
Артамон Сергеевич сел. Понял: снова пыжится. Вскочил на ноги, и тут дверь отворилась и вошёл искатель царской службы. Артамон Сергеевич улыбнулся и пошёл навстречу: его чаяния сбылись.
Спафарий был высок ростом, ровня Артамону Сергеевичу. Плечи развёрнуты, голова посажена гордо, волосы как львиная грива. Глаза карие и не как у Стефаниды — чёрная жаровня, но светящие тихой приветливостью. Поклон отвесил вроде бы и нижайше, а достоинство блюдя.
— Здравствуй, Артамон Сергеевич, сподвижник великого Белого царя! — Спафарий говорил, разделяя слова короткими паузами.
— Здравствуй, жданный друг! — Матвеев поклонился в ответ, ловя себя на том, что обезьянничает с поклоном-то, — Здоров ли? Не утомила ли тебя долгая дорога?
— Кто служит посольскому делу, для того дорога — половина жизни. Позвольте вручить рекомендательные грамоты?