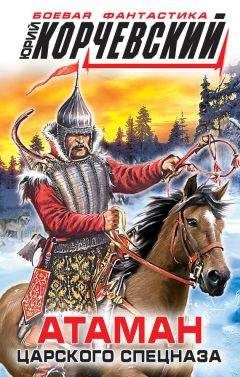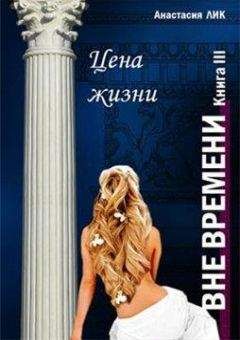Юрий Крутогоров - Повесть об отроке Зуеве
— Смолкни, проклятый, — смирял Бурого чучельник. Тот ложился рядышком, косил на старика глазом. Винился за несдержанность, за сочувственный вой. Голосом выразил и свою — по Петьке — и стариковскую тоску.
На дальнем конце Березова замолкала последняя псина — так замирает эхо — и опять лишь редкие всплески на Сосьве тревожили тишину. Тогда Шумский говорил Бурому:
— Ты не гневайся на меня. Я сам старый дурак. Недоглядел. Вот ты скажи: найдешь их по следу?
Бурый приподнял уши-варежки. Признал свое бессилие. Был бы помоложе — какой разговор. Не тот нюх ныне. И ноги не те. Все, кому не лень, пинают — кабы здох, кабы здох. На охоту не берут, какое там. Хорошо, Петька приласкал. А то — хоть погибай. Не от голоду, рыбы вдоволь. Жить без ласки и призора хозяина страшнее, чем смерть от голодухи.
Ерофеев редко появлялся. Повадился к одной вдове. Еще в питейном доме его видали. Казаки из городового березовского войска тянулись к нему — из ученой команды! Ерофеев не дурак! Сразу оценил свое положение, принимал уважительные чарки, на всякие расспросы отвечал охотно. Много кой-чего узнал в Палласовой команде.
На Зуева сердился. Кто же к самоедам бегает без ружья?
А в Березове ему нравилось. Чем не житье? Пуд ржаной муки — пять копеек, пуд говядины — двадцать копеек. Городок небольшой. Ожениться, корову, лошадь купить — чего еще надо?
— Осиротели мы с тобой, Ерофеев, — говорил Шумский. — Чего делать будем?
— Чего делать, чего делать… Вон сколько мы с тобой чучелов приготовили. Паллас спасибо скажет. А какую росомаху тебе подбил!
— Что росомаха — о ней ли речь? — Старик прислонился к печи, слезы катились по щекам, по бороде.
— И я б с тобой поплакал за кумпанию, — спокойно сказал Ерофеев, — да слез нет.
— Тебе чего плакать? А я Ваську с купели знаю. Он мне заместо сыночка…
Отчего-то совестно стало Ерофееву. Вроде не провинился, а не по себе. Где они, эти дикие юрты? Наведался к крещеным остякам. Те запричитали, зацокали:
— Что тама нада?
— Парня бы выручить…
— Не выруцис. Тундра один ходить незя. Болота.
На минуту и хватило решимости.
5Нарты легки, воздушны. Олени бежали споро, низко пригнув головы. Копыта слегка оседали в серой подушке, искристый звук высекался, полозья скользили по нерастаявшим еще сугробам. Петька прицыкивал по-взрослому, выгоняя скорость. Оленям он дал прозвища и строго покрикивал:
— Эй, Марфушка, вбок-то не вались. Эй, залетны-ы-я, Петруша, нажми.
Зуев покусывал сухую соломину. Какие они, самоеды? Как встретят?
Сама жизнь представляла удобный и естественный способ поближе с ними познакомиться, войти в доверие, сделать записи об их житье-бытье.
Скрутят? Не станут разговоры разговаривать?
Жалость к ни в чем не повинному остяку оказалась сильнее страха. Не гимназия, не Паллас — жизнь давала трудный экзамен.
Лицо омыл свежий ветер с Оби. Зуев чихнул. Петька весело взвизгнул:
— Чихай, чихай! Самоед всегда просит перед охотой, чтобы чихнулось. Охота будет удачная.
— Давай, Петька, чихать вместе. Вычихаем удачу.
Казачонок заправски достал из кармана расшитый кисет, неторопливо прихватил щепоть табаку, сунул в ноздрю, в другую. Голова мальчика дергалась от чиха, слезы полились из глаз.
— Давай и я за кумпанию, — попросил Зуев и выудил из кисета горсть табака. Носы их взрывались, как петарды. Стало жарко, весело, свободно. Опрокинулись на спины, болтали ногами. Олени запрядали ушами. Наконец седоки отчихались, и Петька звонко, посвежевшим голосом заорал:
— А ну, залетныя!
До чего ж славный мальчишечка, этот казачонок. Кто б дал ему десять лет? Атаман!
— Петька, помнишь, ты про святую поляну сказывал?
— Ну.
— Она далеко?
— У Небдинских юрт и будет как раз.
— Заодно бы и поглядели, а?
— Но любят самоеды, когда русские суются в ихние кумирни. Серчают. Особливо их шаманы.
— А потихонечку?
— Ясное дело, потихонечку. Я тебе говорил: со мной не пропадешь, держись меня!
Бор оттеснился в сторонку, глазам открылась просторная поляна.
Золотистые лютики, незабудки цвета озерной воды, полярный мак разом выплеснулись из сероватой моховой подстилки. Тундра не щеголиха. Повседневный наряд ее небросок, как у затрапезной, неумытой остячки. А тут, открытая теплому солнцу, закрасовалась, выставила, словно на ярмарке, свои молодые, сарафанные краски. Через неделю-вторую с севера задует ветер и мигом сметет эти узоры. Но сейчас тундра праздновала свое мимолетное освобождение от ржави болот, унылого однообразия лишая и кочек.
Зуев восхищенно крикнул:
— Петька, гляди, что делается! Краса какая!
— Вижу небось, — сдержанно отозвался мальчик.
На крутом пригорке высилась одинокая сосна со скошенной к западу кроной. Мальчик остановил оленей, распряг их.
— По этой сосне и знаю, где Небдинские юрты, — сказал казачонок и прутом пугнул оленей. — А ну гуляйте, да чтоб недалече.
— Не убегут?
— Куда бежать? Оне домашние.
Примерно в полуверсте от пригорка плотной стеной стояла тайга.
— Пошли в урманы.
Почва прогибалась под подошвами.
В лесу тоненько посвистывали бурундуки.
По стволу прямо перед Петькиным лицом сиганула куница.
Трудно пробираться сквозь нехоженую чащу — сырые овражки, повергнутые буреломом деревья, елки с твердыми иглами.
В узких просветах зеленоватого сумрака увидели ровную, точно выстриженную, опушку. Повсюду на еловых ветках, от комля и почти до вершин, развешаны луки, колчаны, звериные шкурки, бусы из сушеной морошки, мониста из камней, вяленая рыба, медвежьи и оленьи шубы. Странная и разнообразная коллекция — приклады — являла собой дары языческим кумирам. В этой таежной «кунсткамере» были свои персоны: два идола в рост человека. Один, изображающий мужчину, одет в изъеденную временем малицу, украшен медными бляхами, лоскутами из холстины, лентами, самоедскими наградами всех достоинств. Рядом — идол-женщина, тоже в мехах. От шеи до живота ожерелье из шишек, камешков. Деревянная щеголиха, казалось, улыбается тонко выточенными губами. Идол-мужчина, напротив, мрачен, резчик придал его лицу застывшее выражение, лишь в глазницах сверкали кусочки янтаря.
— А мужик, гляди, на тебя воззрился, — шепнул Петька. — Ой, сейчас как вскочит.
— Тихо! — осадил мальчика Зуев. — Не шебарши.
— А боязно.
— То храбер был, а то застращался, атаман.
Так вот она — священная поляна! Вот бы зарисовать… Вдали послышались невнятные мужские голоса.
— Пригнись! — Вася придавил Петькину голову к земле.
6С противоположной стороны к кумирне один за другим выходили самоеды. Чинно кланялись божкам, приседали на корточки.
Их было человек тридцать. Чего-то ожидали.
Ага, вот: ударяя колотушкой по бубну, на опушку стремглав выскочил приземистый мужик в маске: распущенная бородка из длинноволокнистого седого мха, в оскале рта — острые, из моржовой кости зубы. И узенькие прорези для глаз с мохнатыми бровями из того же мха.
Самоеды почтительно следили за приземистым мужиком, который исступленно молотил по бубну палкой, обшитой оленьей лапой.
— Гой, гой, гой, гой! — воинственно загалдели инородцы.
Действо разыгрывалось быстро, на первый взгляд нелепо, но, несомненно, подчинялось правилам и старинным обычаям.
Беснующийся шаман все ближе и ближе подскакивал к божкам, как бы завоевывая пядь за пядью пространство для своей ритуальной пляски, вздевал к ним руки, отбегал, вихрем кружился на месте и тогда становился похожим на раскрученную юлу. Ладони шамана были обращены к деревянным идолам: «Откройте тайну!»
Тайна витала рядом. Вот-вот схватит ее, как ускользающую из рук птицу.
Тайна не давалась. Возможно, к ней надо было настойчивее обратиться. И самоеды помогали своему шаману:
— Гой, гой, гой, гой!
Шаман прильнул ухом к земле. Рукой призвал к тишине.
Взмыл вверх, раскрученный неведомой пружиной. Как знать, возможно, духи в этот момент были заняты иными делами, но все равно во что бы то ни стало их следовало склонить к заботам племени.
Шаман будил их.
Голос его перешел в тонкий вой, и в нем звучали призыв, отчаяние, жалоба.
Да как же не услышать такое!
Т-с-с. Шаман замер. Его тело напряжено, словно тетива. Еще одно протяжное восклицание — стрела заклинания выпущена, она попала в цель.
Духи услышали.
— Гой, гой, гой, гой!
Шаман кидается плашмя на землю. Что в этот миг видится ему, какие голоса внятны?
Он резко и освобожденно срывает с лица маску. Усталый, лысый, с впалыми щеками, узкой бороденкой старик-лесовик. Рот беззуб, губы синюшные. Булькающие звуки во рту. Духи поведали желанные вести.