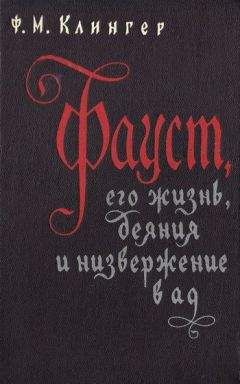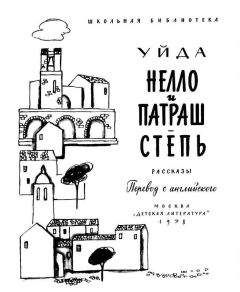Александр Волков - Чудесный шар
– Лучше не придумать! – закричал Трофим Агеич.
Книги тотчас были посланы с Кулибабой.
Когда Дмитрий выздоровел, комендант стал навещать его ежедневно.
– Вы уж, сударь, извиняйте меня, – говорил он, входя. – Может, я докучаю вам?
– Нет, что вы! – искренне возражал Дмитрий.
Французские повести узник прочел в несколько дней. Сенатор выучился стоять на задних лапах. И тюремные дни казались бесконечными. Ракитин радовался приходу майора, бросался к нему навстречу, хватал за руки, усаживал на табуретку.
Начинались долгие разговоры. Трофим Агеич расспрашивал о загранице, которая представлялась ему какой-то сказочной страной. Дмитрий рисовал картины Амстердама с глубокими, спокойными каналами вместо улиц, описывал шумный Париж. Рассказывал Рукавицыну о жизни в немецких городках, где компания разгульных буршей ходит ночью по улицам, снимая на потеху вывески и переставляя так, что булочник оказывается гробовщиком, а белошвейка – сапожником.
Трофим Агеич, в молодости сам забубенная голова, до слез хохотал над такими проделками. Захваченный рассказами узника, майор тщетно ловил в них намеки на прошлую жизнь Ракитина в высшем кругу общества. И, уходя из камеры, каждый раз признавался себе, что не узнал ровно ничего.
На следующий день Рукавицын являлся снова. Что тянуло его в камеру № 9? Майор сам не мог разобраться в своих сложных, противоречивых чувствах. Было в красивом, усталом лице узника, в его спокойных, сдержанных манерах какое-то особое очарование, которое Трофим Агеич считал признаком его высокого происхождения. Поражал объем знаний Ракитина. О чем бы ни зашла речь, Дмитрий уверенно называл имена, даты, приводил факты. Необразованный майор, конечно, не мог проверить утверждения узника, но сердцем чувствовал, что тот никогда не унизился бы до лжи, до выдумки. И майор, сам слишком далекий от правил честности, по какому-то контрасту невольно уважал за это Ракитина.
А где еще мог он найти в крепости такого собеседника, как Ракитин? Не мог же равняться с ним поп Иван, который после третьей рюмки начинал бредить антихристом и концом мира. К удивлению и радости майорши и попадьи, вечерние выпивки их мужей почти прекратились: свои досуги Рукавицын проводил в камере № 9.
Глава восьмая
Радостная встреча
Тюремные ночи Дмитрий встречал со страхом. Его мучила бессонница. Волны глухо били о берег…
Ракитин прекрасно сознавал, что по какой-то необъяснимой причине его жизнь в Новой Ладоге проходит в необычных тюремных условиях. Он пользовался здесь такими удобствами, о которых не мог и мечтать. Кормили его хорошо, у него была мягкая постель, теплое одеяло.
Ему дали товарища по камере – смышленого и забавного кота Сенатора. У него целыми часами сидели майор и Кулибаба.
И все же с переводом сюда положение Ракитина неизмеримо ухудшилось. В петербургской крепости в нем жила слабая надежда на освобождение. Сама неизвестность позволяла строить предположения и не давала места отчаянию.
А здесь?
Все решено, кончено. Дмитрий знал, что его осудили на пожизненное заключение в четырех каменных стенах. И по контрасту вспоминались Дмитрию неоглядные зеленые просторы, раскинувшиеся по берегу Волхова, легкая лодка на лесном озере, купанье в прохладной воде…
Сосенки, Сосенки! Как быстро добрался бы он туда из Новой Ладоги и как они сейчас бесконечно далеки от него!..
С самых первых дней заключения Дмитрий уже начал строить планы побега. Но убежать из Ново-Ладожской тюрьмы было невозможно. Под окнами одиночек по крытой галерее шагал часовой-мушкатер. Бессонный Семен Кулибаба ночью то и дело проходил с фонарем в руке и осматривал прочность оконных решеток, целость затворов у обитых железом дверей.
А если бы и удалось Дмитрию обмануть бдительность часового и Кулибабы и, выломав решетку, выбраться во двор – что толку? У ворот караул, да и сами монастырские ворота крепки – когда-то они выдерживали натиск шведов. Четырехсаженные стены крепости отвесны, на них едва ли вскарабкается даже кот Сенатор.
Нет, из этой тюрьмы единственным путем на свободу был воздух… Как узник завидовал птицам, как жалел, что ковер-самолет существует только в сказках!
Измученный несбыточными мечтами, Ракитин засыпал под утро. И сны приносили ему то, о чем он так жадно и неустанно думал.
Сказочная Могель-птица подхватывает его железными когтями и несет ввысь. Тело Дмитрия становится легким, сердце замирает. Птица рассекает воздух. Внизу бегут города и деревни, равнины и горы… А вдали виднеется заветный край, где люди живут без нужды и горя. Но удары птичьих крыльев медленно, неотвратимо превращаются в удары ладожских волн…
Дмитрий просыпался.
Иногда приходила к нему удивительная способность летать – без ковра-самолета, без крыльев за спиной. Достаточно было напряжения воли, и тело узника отталкивалось от земли и взмывало в воздух. Дмитрий летал под погодком камеры, наслаждаясь своей невесомостью. Открывалась дверь. Прежде чем удивленный тюремщик успевал закрыть ее, узник выпархивал наружу. Пролетев под аркой коридора, он оказывался над тюремным двором. Бежали изумленные солдаты, суетливо выскакивал комендант. Все протягивали к нему руки, стараясь схватить его, но он поднимался выше и выше. На него направлялись мушкетные дула. Комендант протягивал руку, отдавая приказ. Гремели залпы. Ни одна пуля не попадала в Дмитрия. Но залпы неотвратимо превращались в леденящие сердце удары волн… И Дмитрий с тоской просыпался во мраке тюремной камеры.
Так проходили его ночи.
…Пришла весна. С разрешения коменданта Дмитрий вытащил раму из окна камеры. По целым часам стоял он на табуретке, приблизив лицо к решетке. Он слышал звуки голосов, крики ребят на тюремном дворе. Через решетку виднелось небо, по небу летели стаи перелетных птиц. Призывное курлыканье журавлей, возвращавшихся с далекого юга на северную родину, до слез трогало узника.
Дмитрий был совсем один. Верный товарищ скучных зимних дней, ученый кот Сенатор пропадал по целым суткам и возвращался ненадолго взъерошенный, исцарапанный, пахнущий свежим воздухом и волей.
Ракитин пытался завести беседу с часовыми. Те отвечали:
– Нельзя с арестантами разговаривать. Караульный начальник заругается.
Ракитин лежал на койке. Кулибаба только что принес обед, но Дмитрий думал об еде равнодушно, у него не было аппетита. Послышался легкий стук в окно. Удивленный Дмитрий вскочил на табуретку и отшатнулся. Ему показалось, что он видит сон: в окно глядело на него лицо Горового.
Оно очень изменилось: Горовой отрастил усы, подкрученные вверх по военной моде, и все же из-под солдатского кивера на него глядело лицо брата Алешки. И это лицо точно качалось перед ним вместе с тюремной стеной, и были написаны на нем и сострадание, и радость, и ужас.
– Алешка! – хватаясь за решетку, крикнул Ракитин. – Алешенька…
– Митя! Митенька! – расслышал он голос Алексея. – Как ты попал сюда?..
– Не могу говорить… Грудь теснит…
Дмитрий еле дотащился до койки.
Горовой смотрел на узника с любовью и состраданием.
– Бедняга… – шептал он. – До чего тебя довела тюрьма…
Ракитин собрался с силами, и у решетки вновь появилось его бледное лицо.
– Как ты очутился здесь, Алеша? – более твердым голосом спросил узник.
Мушкатер знал: в крепостных стенах нужна крайняя осторожность.
– Давай, Митя, до ночи! Наш капрал – собака. Увидит – разговариваю, с поста снимет. Да и тюремщик все время досматривает.
– Иди, Алеша, а я буду ждать ночи…
Горовой зашагал по галерее. Дмитрий любовно следил за его высокой фигурой, насколько позволяла ненавистная решетка.
Раз и другой сменили часовых, а Дмитрий все стоял у окна.
Ракитину казалось, что прошли годы, прежде чем настала ночь. Шумы и шорохи смолкли, и тишина окутала тюрьму. В полночь снова сменились часовые. Услышав шепот Горового, Дмитрий поспешно прильнул лицом к решетке, протянул руку и ощутил крепкое дружеское рукопожатие.
– Алешка! Алеша, друг ты мой сердечный… Как я рад, нет слов!..
– Понимаю, Митенька, понимаю… Молчи! Мы теперь вместе, и все будет хорошо… Ты мне про себя поведай!
Ракитин рассказал брату о злополучной встрече в Кенигсберге и о том, как стремление Зубарева навербовать себе побольше сторонников довело его, Дмитрия, до беды.
– И знаешь, Алеша, – закончил узник свой грустный рассказ, – я еще дешево отделался: Михайла Васильич помог. А другие прикосновенные к делу были беспощадно биты кнутом и сосланы в Сибирь, на каторгу. Но ты-то, друг мой, единственный мой друг в этой душной неволе, ты как попал сюда в солдатском мундире?
– А дело было, Митенька, так. Ты ведь видел, как мы твердо стояли за свое дело. Работный люд по лесам сидел, а к горнам баб да ребятишек не поставишь. Но только как к весне дело стало подходить, зашевелился народишка. Беглые, почитай, все к домам подались: кому охота дожидаться, когда его семья голодом станет подыхать. Осталось нас десятков шесть, самый стойкий народ. Укрепились мы на мысу у Вохтозера, да недолго там просидели, только до теплого времени. Нагрянула на нас воинская сила…