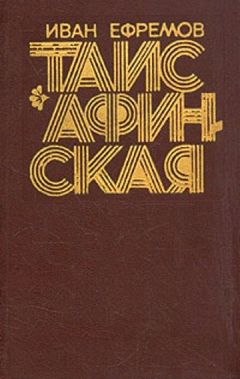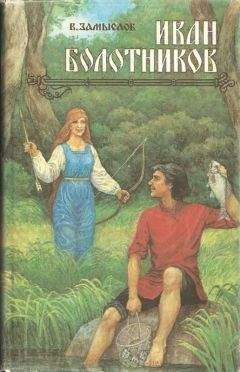Валерий Замыслов - Иван Болотников Кн.1
От Фроловских ворот вдруг зычно пронеслось:
— Братцы-ы! На Ивановской Якимку из Углича казнят!
Посадские хлынули из торговых рядов к кремлевским воротам. За ними последовали и Иванка с бобылем. Деревянным мостом, перекинутым через широкий (на семнадцать сажен) ров, подошли к Фроловским воротам, а затем по Спасской улице мимо подворий Кириллова и Новодевичьего монастыря вышли на Ивановскую площадь.
Возле колокольни Ивана Великого по высокому деревянному помосту, тесно окруженному стрельцами и ремесленным людом, ходил дюжий плечистый палач. Он без шапки, в кумачовой рубахе. В руках палача — широкий острый топор. Посреди помоста — чёрная, забрызганная кровью дубовая плаха.
Палач, глядя поверх толпы, равнодушно позевывая, бродил по помосту. Гнулись половицы под тяжелым телом. Внизу в окружении стрельцов стоял чернобородый преступник в пестрядинной рубахе. Он бос, на худощавом лице горели, словно уголья, дерзкие цыганские глаза.
Постукивая рогатым посохом, на возвышение взобрался приказной дьяк с бумажным столбцом. Расправив бороду, он развернул грамоту и изрек на всю Ивановскую:
«Мая девятнадцатого дня, лета 7099[72] воровской человек, углицкий тяглец черной Никитской слободы Якимка Михеев хулил на Москве подле Петровских ворот конюшего и ближнего государева боярина, наместника царств Казанского и Астраханского Бориса Федоровича Годунова воровскими словами и подбивал людишек на смуту крамольными речами…»
Толпа хмуро слушала приговорный лист, тихо перекидывалась словами…
— А ведь про этого Якимку нам дед Терентий только что сказывал. Вот и сгиб человек. Эх, жизнь наша горемычная, — наклонившись к Иванке, невесело вымолвил Шмоток.
Болотников молча смотрел на Якима, который напоминал ему чем-то отца. Такой же высокий, костистый, с глубокими, умными и усталыми глазами.
А приказной дьяк заключил:
«И указал великий государь и царь всея Руси Федор Иоаннович оного воровского человека казнить смертию…»
В толпе недовольно заговорили:
— Невинного человека губят.
— Царь-то здесь ни при чем. Это татарина Годунова[73]проделки.
— За правду тяглеца казнят. Истинно в народе сказывают — не его, а Бориску бы на плаху…
В толпе зашныряли истцы и земские ярыжки. Одному из посадских, проронившему крамольное слово, скрутили руки и поволокли в приказ.
Якиму Михееву развязали руки, передали свечу монаху с иконой Спаса. Один из стрельцов подтолкнул бунташного человека бердышом к помосту.
Яким повел широким плечом — стрелец отлетел в сторону.
— Не замай, стрельче, сам пойду.
Угличанин поднялся на помост. Ветер взлохматил черную, как деготь, бороду, седеющие кудри на голове.
Палач приосанился, ловко и игриво подбросил и поймал топор в воздухе.
— Клади голову на плаху, Якимка.
Тяглец сверкнул на палача очами, молча повернулся лицом к колокольне Ивана Великого, истово перекрестился, низко поклонился народу на все четыре стороны, воскликнул:
— Прощайте, православные. От боярских неправд гибну, от Бориски-злодея…
К посадскому метнулись стрельцы, поволокли его к палачу. Яким оттолкнул служивых, сам опустился на колени и спокойно, словно на копну мягкого сена, положил голову на плаху.
Палач деловито поплевал на ладони и взмахнул топором. Голова посадского глухо стукнулась о помост.
Болотников сжал кулаки, кровь прилила к смуглому лицу, и на душе закипело, готовое выплеснуться горячими и злыми словами в угрюмую, притихшую толпу.
— Уж больно ты в лице переменился. Идем отсюда, Иванка.
— Смутно мне, Афоня. Впервой вижу, как без вины человека жизни лишают и топором голову рубят. Отчего так горько на Руси? Где ж правда?
— Правда у бога, а кривда на земле, парень, — вытаскивая молодого страдника из толпы, сказал бобыль.
— Да нешто так жить можно! — зло проговорил Болотников.
— А ты близко-то к сердцу не примай, Иванка. Оно и полегче будет. Плетью обуха не перешибешь…
Глава 7
«Ослушников — в подклет!»
На Никольской улице, возле государева Печатного двора, Афоня Шмоток спросил посадского:
— Не скажешь ли, милок, где тут хоромы князя Андрея Андреевича Телятевского?
— За Яузой, на Арбате, на Воронцовском поле, близ Вшивой горки, на Петровке, не доходя до Покровки, — озорно прокричал посадский и шмыгнул в переулок.
— Будет брехать, типун те на язык! — крикнул ему вдогонку Афоня и заворчал. — Ну и народец, ничего толком не дознаешься.
Спросили старичка в армяке, с холщовой сумой за плечами. Тот молча указал на монастырь Николы Старого, за которым виднелись богатые хоромы боярина Телятевского.
Наряден и причудлив рубленый терем. Башни узорчатые, кровли живописные, над крыльцами шатровые навесы с витыми столбами, затейливые решетки да резные петухи.
Гонцы подошли к бревенчатому тыну. Болотников постучал в калитку. Из открывшегося оконца высунул пегую бороду старый привратник.
— Кого надось?
— Дозволь к князю пройти, батюшка, — просяще вымолвил Афоня.
— Ишь чего захотели, князя им подавай! Велико ли дело у вас к государю нашему?
— Велико, друже. Из вотчины к князю миром посланы, челом бить от крестьян.
— Недосуг нонче Андрею Андреевичу. Только и дел у него мужиков принимать, — недовольно вымолвил привратник и захлопнул оконце.
— Деньгу доставай, Иванка, иначе не допустит. Здесь на Москве и шагу без денег ступить нельзя, — шепнул Болотникову бобыль и вновь забарабанил в калитку.
— Уж ты допусти к князю, батюшка. Дело наше неотложное. Прими от нас полушку за радение.
Привратник высунул в оконце руку, зажал в пятерне монету и показал гонцам кукиш.
— Ишь чего удумали. Нешто доступ к князю полушку стоит, — хмыкнул в пегую бороду привратник и вдруг, страшно выкатив глаза, закричал, потрясая кулачищем:
— А ну плати алтын, а не то собак со двора спущу, нечестивцы!
— Ну и дела, — сокрушенно качнул головой Болотников. Однако пришлось снова раскошелиться.
Привратник распахнул калитку и окликнул возле терема статного парня в легком малиновом кафтане.
— Якушка! Допусти мужичков к князю.
Челядинец сошел с красного крыльца, поигрывая кистями рудо-желтого кушака, окинул пытливым зорким взглядом гонцов и приказал распахнуть кафтаны.
— Али мы лиходеи какие? Нет при нас ни ножа, ни пистоля, — проговорил Афоня.
— Кто вас знает. Из Богородского села, что ли, наехали? Ну, айда к князю, — весело проронил Якушка.
Челядинец, однако, в терем не пошел, а повел страдников в глубь двора, где раскинулись многочисленные княжьи службы, конюшни, поварни, погребки, клети, мыльни и амбары. Затем потянулись заросли вишневого сада.
— Ты куда это нас ведешь, молодец? — недоумевая, спросил Афоня.
— Иди и не спрашивай, — строго молвил Якушка.
В глубине сада, возле темного замшелого сруба, высокий мужик в белой полотняной рубахе и кожаных сапогах махал широким топором по толстенной и сучковатой дубовой плахе.
Дровосек взмахнул раз, другой, но кряж неподатлив. У мужика аж спина взмокла.
Болотников пожал плечами, присмотрелся и высказал громко:
— Разве так плаху колют, друже? Ты её комлем вниз поставь да вдарь как следует меж сучьев.
Мужик воткнул топор в кряж и обернулся. Гонцы оторопели: перед ними стоял князь Андрей Телятевский Слыхано ли дело, чтобы боярин мужичью работу справлял. Не зря, видимо, в народе говорят, что с чудинкой бывает князь Телятевский.
О том же и Якушка подумал. У князя что ни день, то причуда. Любит мирской работой потешиться. Еще неделю назад наказал: «Приготовь мне, Якушка, с полсотни плах посуковатей. Топором разомнешься — силу приумножишь». Вот теперь каждый день и балуется с топором. Ну, потеха!
Князь Андрей Андреевич насупил брови, хотел прикрикнуть на дерзкого парня, но сдержался.
— А ну бери топор, кажи свою сноровку.
Болотников смутился, замешкался. Князь сбросил рукавицы и выжидал, подперев бока руками.
Была не была! Шагнул Иванка к неподатливому кряжу, перевернул и что было сил ударил топором. Кряж распался надвое.
— Ловко вдарил. Хвалю. Это ты, кажись, на ниве с Мокейкой схватился?
— Я, князь, — отбросив топор в сторону, с легким поклоном сказал Болотников.
— Ко мне в дружину пришел?
— Пахарь я, князь. Прислал меня мир до твоей милости.
— Отправную грамоту от приказчика привез?
— Грамоты с собой не имею. Крестьяне гонцом послали к тебе, князь, челом ударить. А приказчика мы не спросились.
Телятевский нахмурился, заходил вдоль сруба, затем приказал Якушке:
— Ослушников — в подклет!