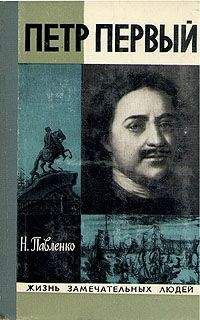Вольдемар Балязин - Верность и терпение. Исторический роман-хроника о жизни Барклая де Толли
Так уж случилось, что даже любимая забава двора — театр сначала был немецким, затем итальянским, после того — французским, и лишь в конце концов вышла на сцену и русская труппа — сначала Сумарокова, а за ней и Волкова[40].
И ежели в свою пору Ломоносов, воспоминая о французском, ценил язык сей за то, что на нем с дамским полом говорить прилично, то теперь, не зная французского, можно было служить лишь в провинции, а в армии — хорошо если командовать полком, выше все приказы писались начальством по-французски.
В русской администрации мог служить человек любой нации, но его вторым языком должен был быть язык парижского света. И чем выше был пост чиновника, тем безукоризненнее должно было быть знание французского.
Обычный день даже у дворянина средней руки заключен был между традиционными «бонжур» и «бонсуар», проходя через бесконечные «мерси, мадам», «пардон, мадам», «вуаля, мадам»[41] и тому подобную галантную чепуху. Даже старые дворовые люди нередко знали по сотне-другой французских слов, а иные и говорили по-французски и даже читали.
В военном деле тоже никуда нельзя было деться от бесчисленных терминов, оттеснивших отечественные названия приемов, действий. Навеки вошли в военные российские лексиконы, а потом и в сам язык, вскоре уже не требуя перевода, «авангард» и «аванпост», «бомбардир» и «волонтер», «корнет» и «капитан», «каре» и «камуфляж» и десятки иных слов и понятий. Дошло до того, что и приказы по армии писались по-французски.
И потому без французского военному человеку не то что карьеры, но и обычной службы своей нести было нельзя…
Маленькая оплошность произвела на Михаила большое впечатление, оказалась даже некоей встряской, от чего был он обычно защищен спокойствием и холодностью своего характера. И столь же внезапно принял он решение: «Выучу французский». Дане, четко и ясно выказав в разговоре с Михаилом ум и сообразительность, не скрыв от него и юношеской увлеченности своим необычным ремеслом полицейского лимьера, а по-русски — дошлого сыщика, весьма понравился Михаилу, и расстались они добрыми приятелями.
* * *Так пришло к Барклаю и еще одно постижение военной службы — понимание того, что делает военная полиция, агентурная служба армии, те самые шпионы — снова французское слово, — которых русские называли лазутчиками и соглядатаями, вкладывая в эти слова немалое презрение и даже гадливость.
А как было без них обойтись, когда инсургенты собрали в Гродно опытнейших заговорщиков и убийц, коими, по данным тишайшего Ивана Яковлевича де Дане, руководил сам Тадеуш Костюшко — опытнейший конспиратор, истинный оборотень, прибывший в Польшу из-за океана, где был он генералом армии Джорджа Вашингтона.
Из тех немногих сражений, что дали повстанцы русским прошлым летом, двумя, оказавшимися для мятежников удачными, командовал именно он. А теперь, уверял Дане, прибыл Костюшко в Гродно, чтобы кинжалом, пулей или ядом свести счеты с королем-изменником «зрадцей Станиславом», как прозвали Понятовского его вчерашние подданные, а ныне чуть ли не все сплошь — мятежники.
В общем, сколько ни старались Иван Яковлевич и все его люди — шинкари, содержатели отелей, торговцы всех видов, от хозяев многочисленных лавок до мелких разносчиков-офеней, не считая чиновников и полицейских, — Костюшко как в воду канул, и оттого на душе и у Дане, и у Барклая, да и у самих Кречетникова и Сиверса было неспокойно — а ну как выскочит где ни попадя сей оборотень, учинит королю некое нежданное лихо, что тогда?
И потому на кордегардии да гауптвахты, аванпосты да заставы, а паче всего на дворцовые караулы и оставалась вся надежда. Новая служба Барклая оказалась, пожалуй, тяжелее всех прочих — не из-за жары или стужи и не из-за обстрела или атаки в штыки, а из-за вечного страха неведомой опасности, которой приходилось ждать каждую минуту и днем и ночью.
Поневоле изучив многие тонкости полицейской службы, Барклай из пребывания во дворце извлек две несомненные для дальнейшей службы пользы: во-первых, сильно продвинулся вперед во французском и, во-вторых, вошел в мир, дотоле совершенно ему недоступный. Он близко увидел жизнь во дворце, в настоящем королевском дворце, и при дворе, хотя конечно же совсем не таком, каков был Петербурге кий, где ему довелось побывать лишь дважды, сопровождая графа Фридриха, а другой раз — сопутствуя принцу Ангальту. И все же это был двор коронованной особы, со всеми атрибутами королевского этикета и всеми приличествующими тому аксессуарами.
Когда Барклай впервые увидел Станислава Августа, он показался ему истинным королем. Его встречали колокольным звоном и пушечным салютом, ему отдавал шпагой честь сам главнокомандующий, его эскорт — Польская хоронгва — шел на прекрасных лошадях, в элегантных, сверкающих серебром и золотом гусарских доломанах, в шапках, отороченных соболем.
И сам Станислав Август вышел из кареты в генеральском мундире, украшенном голубой Андреевской лентой, со множеством орденов и алмазным портретом государыни. Он был стар, осанист и величествен. Ничто не говорило о постигшем его несчастье — разделе его страны. Станислав Август, надменно и гордо вскинув голову, державно и медленно взошел на крыльцо дворца, по обеим сторонам которого в две шеренги немо стояли молодые красавцы великаны в ливреях, напоминающих мундиры генералов.
Но не прошло и недели, как Барклай понял, что торжественный въезд короля в Гродно был не более чем еще одним привычным для него спектаклем, может быть, более пышным из-за того, что статистов — солдат и слуг — было больше, чем обычно, и звуковые эффекты — из-за артиллерийского салюта и колокольного звона — тоже посильнее повседневных криков «На караул!» и барабанной «Встречи».
Как ни был далек Барклай от короля, но ежедневное общение с немногочисленными придворными все же позволило ему узнать то, чего не узнал бы он в Царском Селе, проживи там хоть десять лет.
Королевский дворец в Гродно был раз в двадцать меньше Большого Екатерининского дворца в Царском Селе, а придворный штат был соответственно меньше раз в сто. И если бы можно было уподобить царскосельский дворец гигантскому увеличительному стеклу, то его фокус был бы равен дворцу в Гродно, ибо в фокусе сконцентрировались бы полтора-два десятка сановников империи, игравших первые роли в этом великолепном, огромном театре.
И в королевском театре в Гродно амплуа были те же: герои-любовники и героини-любовницы, доверенные советники и наперсницы-советчицы, завистники и злодеи, наушники и шуты, мудрецы и прорицатели, верные оруженосцы и гранд-кокетки, но, сколько бы их ни было, более полутора десятков тоже не насчитывалось. Зато все они были на виду и на слуху, представляя собою высокую концентрацию того же самого, чем был в свое время Версаль, а ныне продолжали быть Царское Село, Вестминстер или Сан-Суси.
Когда же поселился король в своих чертогах, то стало ясно, что все у него — в том числе и дворец — не свое. Может быть, принадлежал ему мундир да награды, да и то поговаривали, что все это тоже заложено, перезаложено и давно описано заимодавцами-кредиторами. И если бы не матушка-государыня, чей осыпанный алмазами портрет носил он на сердце, то неизвестно, где бы он был и что проживал.
Еще в Петербурге слышал Барклай, как и многие другие, что в молодости у государыни был с Понятовским — тогда еще послом в России — сокрушительный роман и что будто даже родилось от этого романа дитя, но государыню всегда сопровождало столько злословия и нелепиц, басен и пересудов, что и этому слуху можно было и верить и не верить.
Дымный шлейф этой давней истории, одновременно чем-то возвышающей нищего короля и унижающей великую Владычицу Севера, все еще тянулся по коридорам гродненского дворца, окутывая фигуру Станислава Августа в романтический флер, вызывая к нему у одних чувство печальной зависти, а у других — злорадство.
Так и жил этот странный и, в общем-то, казавшийся Барклаю жалким человек, пытаясь доказать окружавшим, что он — король, но сам-то отлично осознававший, что на самом деле — не более чем банкрот, политический банкрот столь же полный, как и финансовый.
Барклай близко сошелся с французом Дане, и тот, крещенный как Жан-Жак, а на русский лад — «Иван Яковлевич», хорошо помог в одолении французского. Кроме того, была Барклаю от общения с Дане и другая немалая польза: француз, не раскрывая секретов службы, сообщал иногда Михаилу крайне интересные сведения. Так, однажды Иван Яковлевич как бы между прочим сказал, что Понятовский предложил государыне свое отречение от польского престола за пожизненную ренту в восемьдесят тысяч ливров в год.
Но, судя по тому, что Станислав Август так и оставался королем, его предложение не было принято. «Наверное, — подумал Барклай, — польский трон и без этого скоро достанется России».