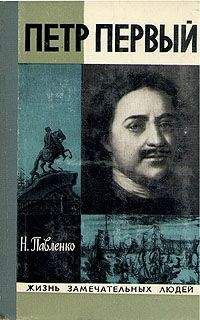Вольдемар Балязин - Верность и терпение. Исторический роман-хроника о жизни Барклая де Толли
На площадь же все подходили и подходили горожане — правда, все больше простые люди-ремесленники с бубнами и хоругвями своих цехов, окрестные мужики и бабы, монахи, студенты, — и вскоре все они стали участниками всенародного честного пира, который закончился общим с российскими солдатами гулянием с песнями, уверениями в любви и даже объятиями и поцелуями.
Но такая идиллия была не всюду: чем дальше к югу и западу, тем обстановка была враждебнее, а на берегах Буга, у Гродно и возле Слонима появились не просто шайки бунтарей, а целые регулярные полки мятежников.
От своих предшественников они отличались тем, что если раньше мятежные шляхтичи бились за собственную «злоту вольность», то теперь их крамола была лишь малой частью всесветного мятежа, вспыхнувшего три года назад в Париже[34].
Теперь за спиной схватившихся за оружие поляков стояли богопротивные санкюлоты, лишившие своего законного монарха трона[35].
И под дудку этих голодранцев, кричавших на весь мир уже не только о «злотой вольности», но и о свободе, равенстве и братстве, стали лихо выплясывать и некоторые польские магнаты и шляхтичи помельче, но поталантливее, а значит, и поопаснее — Коллонтай, Костюшко[36], Зайончек. Полк Цицианова в середине июля пошел к Гродно, но по дороге никакого сопротивления не встретил и вошел в город без выстрела, как и за месяц перед тем, когда вступил в Вильно.
После непродолжительного рейда к берегам Буга санкт-петербургские гренадеры стали в Гродно на зимние квартиры и простояли более года. За это время Барклай стал свидетелем событий исторических и понял, что армия является в них главным орудием промысла, ибо Бог всегда стоит на стороне сильных.
И даже когда Бог оказывался на стороне тех, кто был слабее, то на поверку выходило, что и тут стоял он на стороне сильных, ибо слабость их оказывалась мнимой. Чаще всего такое случалось, когда против откровенной силы — грубой и наглой — выступала вроде бы почти беззащитная правда. И тогда-то и становилась справедливой старая мудрость: «Не в силе Бог, а в правде». Только в Гродно все было не так просто, и где тут была сила, а где правда, долго не мог разобрать и сам Господь.
Тем более нелегко было судить о том простому офицеру.
А судить было надо. Ну, если и не судить, то разобраться все же следовало. Иначе как же служить?
Прежде всего выходило, что русские вошли в Польшу не сами по себе, а по приглашению людей, ратующих за свою страну и свой народ, к тому же людей знатных и благородных, да еще и друзей России и государыни. Во-вторых, к этому времени и сам король примкнул к конфедератам, и, казалось, больше уже никто не станет противиться русским и их союзникам.
Значит, все было в порядке и служить согласно данной присяге следовало и законной государыне, и ее верным союзникам.
А дальше Барклай стал свидетелем того, как 21 марта 1793 года в Гродно приехал полномочный эмиссар Екатерины граф Яков Ефимович Сивере. Он должен был собрать здесь сейм и добиться от его делегатов признания того, о чем за спиной поляков тайно от всех договорились русская императрица и прусский король: о разделе почти всей Польши между ними и, следовательно, о почти полном уничтожении польского государства.
Задача была не из легких, но противодействовать задуманному было некому — преданная своими магнатами Польша стояла со связанными руками, на коленях перед двумя вооруженными разбойниками. Однако и объяснять происходящее державы-победительницы тоже никому не собирались — только что парижские санкюлоты отрубили головы своим монархам — Людовику XVI и Марии-Антуанетте, так хотя бы поэтому мятежное гнездо на востоке Европы должно было быть уничтожено.
27 марта генерал Кречетников огласил Манифест Екатерины II, в котором говорилось: «Ненавистные неприятели общественного спокойствия, подражая безбожной, бешеной, преступной и разбойнической шайке французских бунтовщиков, стараются по всей Польше расселять и привить их учение и тем самым навсегда погубить спокойствие и собственной страны, и ее соседей».
И поэтому огромный массив украинских, белорусских, польских и литовских земель входил отныне в Российскую империю, а Польское Поморье, Великая Польша и Мазовия — в состав Пруссии.
От Польши осталась лишь одна треть.
Генерал-аншеф Кречетников вызвал Барклая в свой штаб, размещавшийся в гродненском замке, сразу после того, как был оглашен Манифест государыни о новом разделе Польши.
— Господин премьер-майор, — официально и сухо обратился к нему Кречетников, — вскоре пожалует сюда его величество Станислав Август, король Польши. Надобно сделать все, чтоб его величество был здесь от всяческих атентаций[37] на особу свою безопасен. А меж тем извещен я, что в Гродно находятся тайно многие инсургенты[38], замышляющие всяческие посягательства на особу его величества.
«А при чем здесь я? — подумал Михаил. — Есть же на то военная полиция». Главнокомандующий, будто прочитав мелькнувшую в его голове мысль, тут же добавил:
— Всеми делами, до преступных комплотов относящимися, ведает особое бюро при штабе моем, вам же надлежать будет охранять дворец, где вскоре станет жить его величество. Для сего прикажу я ввести в замок, соседствующий с дворцом королевским, флигель-роту батальона вашего для квартирования здесь и для несения постоянных караулов во дворце и вокруг него. Другие же роты будут размещены от дворца поблизости на случай спешного сикурса, если злоумышленники попытаются на замок напасть. О дислокации флигель-роты ордер получите у генерал-поручика Германа — квартирмейстера нашей армии, а офицера, отвечающего за безопасность короля, я сейчас вам представлю.
И вскоре, вызванный адъютантом, вошел в кабинет Кречетникова невысокий худенький юноша, одетый почему-то не в мундир, а в партикулярное платье.
И представил их друг другу Кречетников как-то не обычно.
— Будьте знакомы, господа, — проговорил генерал, назвав Барклая по званию, а пришедшего канцеляриста, о котором только что отозвался как о своем офицере, просто Иваном Яковлевичем.
Молодые люди поклонились и, обмениваясь рукопожатиями, проговорили:
— Барклай-де-Толли.
— Де Дане.
Объяснив, каким образом должны они будут сотрудничать, охраняя священную особу, которая вскоре должна была осчастливить их своим появлением, Кречетников сказал в заключение, заметно помягчев оттого, что дело пошло и молодые люди, кажется, понравились друг другу:
— Ну, господа, за дело. А всякий петит[39], детали всякие, обсудите меж собой сами. С Богом.
Дане привел Михаила в мансардную комнатенку, зажатую меж высокими крутыми скатами черепичной крыши.
Стол, два неказистых стула и такой прочный шкаф, будто в нем хранилась армейская казна, — вот и все, что было в его Особом бюро.
Пригласив Михаила сесть, Дане спросил его по-французски:
— Вы — француз?
— Нет, шотландец, — думая, что отвечает по-французски, сказал Барклай. Однако в его ответе лишь «нет» произнес он по-французски, а называя свою национальность, употребил немецкое слово «скотт», потому что не знал французского «экосе».
Дане мгновенно понял, в чем дело, и сказал уже по-русски:
— Извините, господин премьер-майор, меня сбила с толку ваша французская дворянская приставка «де».
Барклай коротко объяснил, почему именуется он «де Толли», но и промах свой понял: французский следовало знать лучше.
…Всякий русский, ступивший хотя бы на первую ступеньку лестницы, именуемой Табелью о рангах, вскоре же убеждался в том, что французский надо знать, и чем совершеннее, тем для карьеры лучше.
Зачастую и вся карьера зависела от того, насколько совершенен был чиновник в этом языке — языке двора, высшей бюрократии, дипломатов всех рангов и генералитета. Да и сама государыня и вся ее семья предпочитали французский всякому другому, хотя немецкий был родным ей, а русский она просто обожала.
Так уж случилось, что даже любимая забава двора — театр сначала был немецким, затем итальянским, после того — французским, и лишь в конце концов вышла на сцену и русская труппа — сначала Сумарокова, а за ней и Волкова[40].
И ежели в свою пору Ломоносов, воспоминая о французском, ценил язык сей за то, что на нем с дамским полом говорить прилично, то теперь, не зная французского, можно было служить лишь в провинции, а в армии — хорошо если командовать полком, выше все приказы писались начальством по-французски.
В русской администрации мог служить человек любой нации, но его вторым языком должен был быть язык парижского света. И чем выше был пост чиновника, тем безукоризненнее должно было быть знание французского.