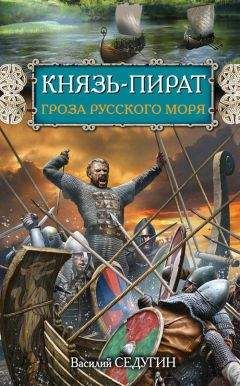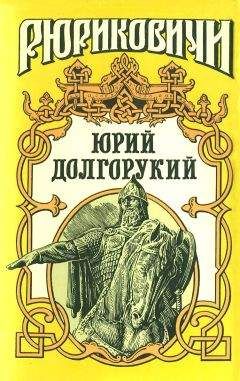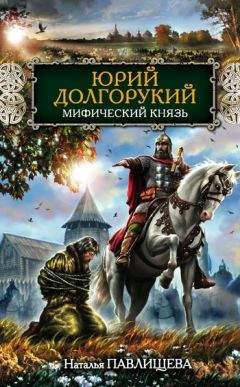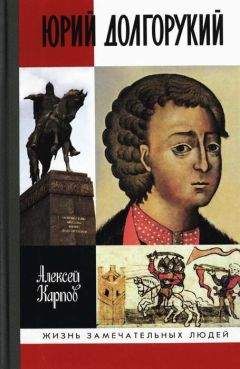Юрий Долгорукий - Седугин Василий Иванович
Он подошел к ее светлице и открыл дверь. То, что представилось, потрясло его. На кровати сидела его жена и молодой половец, и они целовались. Он увидел ее обнаженное тело, наполненные страстью глаза, растрепанные волосы… Особенно его поразило то, что Доминика не испугалась при его появлении, а лишь чуточку отстранилась от любовника и сказала капризно:
– Вечно ты не вовремя…
Он круто повернулся и вышел не помня себя, ворвался в свою горницу, упал плашмя на кровать. Сколько раз намекали, что жена неверна ему, и вот теперь он увидел собственными глазами. Какая низость! Какой позор!.. То, что три дня пробыл с Ефросиньей, он забыл, ему виделась только картина измены Доминики с половцем. Нет, дальше терпеть больше нельзя, решил он про себя. Надо рвать с ней все отношения окончательно. Иначе каким он мужчиной будет, если станет колебаться? А самому ему в это время хотелось, чтобы ничего не менять, чтобы все осталось по-прежнему, чтобы рядом с ним была она, его любимая супруга, его Доминика…
В дверях послышался шорох, отстраненный голос жены спросил:
– Ну и что ты будешь делать теперь?
Он – в подушку:
– Уйду. Насовсем уйду от тебя…
– Никуда ты не денешься, – издевательским тоном произнесла она. – Ты не способен. Ни на что ты не способен, кроме войны. Вот этим и занимайся, а другим жить не мешай.
«Другим» – это ей, понял он. Он не должен ей мешать путаться с другими мужиками. И это она ему говорит открыто, как само собой разумеющееся! И ему вдруг захотелось сказать ей что-то обидное, задеть и унизить. Тут он вспомнил про Ефросинью и проговорил с торжеством в голосе:
– А я тоже тебе был неверен!
В ответ она рассмеялась, презрительно, дерзко:
– Врешь! Выдумал, чтобы сделать мне больно, отомстить. Никакой другой женщины у тебя нет. Да и никогда не будет!
– А вот и есть! А вот и есть! – упрямо твердил он.
– Ты и соврать-то не умеешь, – вздохнула она притворно, будто жалея его, и это было ему особенно обидно и досадно. Тогда он вынул из кармана платочек, который подарила на прощание Ефросинья, и, протягивая его жене, настойчиво проговорил:
– Вот убедись, даже запах ее остался.
Она поднесла платочек к лицу, понюхала, потом еще раз взглянула на него, и уже зло, с ненавистью:
– Выходит, ты только прикидываешься святошей! А в тихом омуте черти водятся! Да еще меня смеешь обвинять! Ну, этого я тебе никогда не прощу!
Доминика заперлась в своей светлице и, как ни пытался Святослав войти к ней, она его не пустила. А рано утром, когда он спал, она уехала из Новгорода-Северского вместе с половцами.
Без нее дворец будто опустел. Как неприкаянный ходил он по нему, казнил себя за то, что проговорился про Ефросинью, жалел, что связался с этой женщиной в Киеве, что все сломал в своей жизни, сам того не желая. Если бы можно было вернуть прошлое, пусть с короткими и зыбкими радостями, но наполненное любовью к Доминике, он бы согласился на это не колеблясь… И вдруг вспомнил, как однажды, еще пятнадцатилетним юношей, когда он возвращался с охоты и только что выехал из леса, с холма увидел город, притулившийся возле широкой Десны, воды которой блестели в лучах полуденного солнца, разброс домов в кущах садовых деревьев и княжеский дворец среди них. И его грудь внезапно наполнилась теплом и светом: там, в этом дворце, в одной из светлиц живет его Доминика, чудесное существо, которое дарит ему радость. Именно в этот день он впервые почувствовал любовь к ней, и эта любовь жила с ним до сегодняшнего дня. И он хотел бы жить с ней до конца дней своих!
V
В июле 1146 года Святослав приехал в Киев, прошел мимо терема Ефросиньи, но так и не решился заглянуть к ней. Всеволода Ольговича застал совсем плохим. Тот полулежал в кровати, обложенный большими подушками. Толстое брюхо его спало, рачьи глаза, когда-то страшные для всех, потухли. Новгород-Северского князя приветствовал он слабой улыбкой и, недолго поговорив, отпустил.
Святославу тяжело было оставаться в великокняжеском дворце, и он ушел в свой дом, расположенный в военном посаде Пасынча Беседа. Ключник Матвей, поставленный им на эту должность, был верным и надежным человеком, сообщавшим ему самые последние новости столицы. Вот и сейчас, сильно шепелявя (в юности в драке ему выбили передние зубы), он говорил взволнованно и с придыханием:
– Тревожно, батюшка, нынче в Киеве. Слухи нехорошие ходят. Люди сходятся группами и переговариваются. Все это сильно напоминает события тридцатилетней давности, когда киевляне восстали против вокняжения черниговских князей и настояли на приглашении Владимира Мономаха.
– И чем же сегодня недовольны киевляне? – спросил Святослав, отодвигая недоеденную кашу с молоком и принимаясь за жареное мясо.
– Большие обиды на великого князя Всеволода Ольговича высказывают. Приблизил он в последние годы тиунов Ратшу и Тудора, передал им управление в Киеве и Вышгороде, а те давай чинить насилия и грабежи. «Ратша погубил Киев, а Тудор Вышгород», – вот как рассуждают в народе.
– Что еще говорят в народе? Или этим недовольство горожан и заканчивается?
– Кабы так… Но только боюсь я тебе пересказывать иные слова…
– А ты не бойся. Неужто я в твоей верности усомнюсь, если правду скажешь?
– Не любят вас, черниговских князей, киевляне. Испокон веков так повелось, что на вас смотрят здесь как на чужаков…
Святослав это знал. И отца его в 1113 году по этой причине не пустили на престол, а предпочли переяславского князя Мономаха, хотя по старшинству ему надо было быть великим князем; и сам он, Святослав, приезжая в столицу, чувствовал на своей спине недружелюбные взгляды. Из-за чего шла такая вражда, никто не знал и не пытался вникнуть, но она была и выливалась в самые различные формы.
– Братец твой Всеволод Ольгович заставил киевлян крест целовать Игорю, – продолжал между тем ключник. – Люди шли под принуждением и присягу давали неискренне. Разве не нагляделись они на твоего брата Игоря, что он на одном месте долго усидеть не может, из одной войны в другую бросается, из битв и сражений не вылезает? Это он был всего-навсего князем маленького княжества, а сколько походов совершил! Но коли станет великим князем Руси да получит в руки все русское войско, на какие страны тогда замахнется? А ведь народ понимает, что головы класть придется ему, а не князьям.
– Князья тоже погибают.
– И такое бывает. Только…
– Ну ладно, ладно, разболтался! Поумерь пыл. Все выложил?
– Не все, князь. Но раз ты так считаешь…
– Считаю не считаю, а ты договаривай. Чего еще припас?
– Унизил великий князь киевлян, как есть унизил! – решительным голосом проговорил Матвей. – Обычай наш растоптал, превратил нас всех в задницу!
Задницей (с ударением на «и») в Древней Руси называли движимое и недвижимое имущество, которое передавалось по наследству, и Святослав сразу уловил мысль Матвея, что он этим хотел сказать.
– Не надо было Всеволоду указывать на своего наследника? – спросил он.
– Конечно! Ведь даже великий Владимир Мономах заключал с киевлянами договор, когда восходил на престол. Времена переменились, а твой брат понять этого не хочет. К голосу вече надо прислушиваться ныне, большую силу оно заимело…
30 июля 1146 года князь Всеволод Ольгович скончался. После похорон, усталый и разбитый, Святослав прилег отдохнуть, как его поднял ключник Матвей:
– Беда, князь! Киевляне собрались на площади, говорят непотребные слова, требуют тебя на вече!
– А что Игорь? Он же великий князь!
– Игоря хулят последними словами и не хотят разговаривать! Поспешай, князь, а то как бы беды не было…
Подходя к Софийской площади, издали он услышал гул многих голосов. Народу – не протолкнуться. Но его сразу узнали, расступались, освобождая дорогу. Легко взбежав на помост, оглядел людей и тотчас понял, что возбуждение толпы достигло высшей точки, еще немного – и пойдут громить, не щадя никого и ничего.