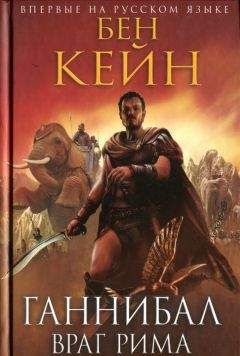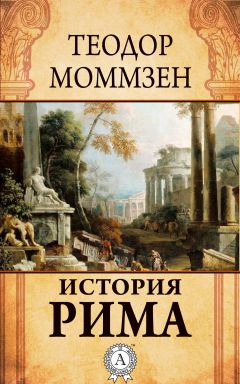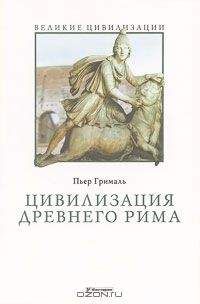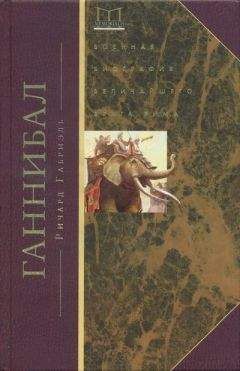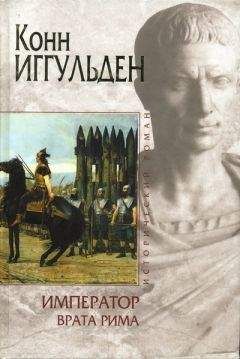Людвига Кастеллацо - Тито Вецио
На одну из таких пар устремила свои неподвижные, широко раскрытые глаза супруга претора Сицилии прекрасная Цецилия. Она точно с наслаждением любовалась звериной лютостью бьющихся друг с другом врагов поневоле. Ее будто утешила черная кровь, струившаяся из множества ран и образовавшая посреди арены громадную лужу. Ее словно захватило зрелище схватки двух бойцов, побросавших свои мечи и душивших друг друга в объятиях. С каким-то безотчетным наслаждением она следила за убийствами, корчами и муками смертельной агонии. Разбитое сердце красавицы точно хотело найти утешение в адских страданиях людей. Во всем этом хаосе бесцельного убийства ради защиты самого дорогого, что есть у человека — собственной жизни, в попытке утолить жажду мести, нанеся врагу последний смертельный удар, после чего умереть самому, было что-то завораживающее.
При виде всего этого что-то странное происходило в душе матроны. Свирепые инстинкты поднимались со дна ее души, искалеченной страстями, черты прекрасного лица искажались, ее вид был ужасен. В поединке черной души и прекрасного тела победила душа, и неземная красота, столько раз воспетая современниками, возбуждавшая зависть самых красивых патрицианок Рима, вдруг преобразилась в уродство, искаженная признаками ужасного недуга — свирепой манией убийства.
Когда все гладиаторы были перебиты или из-за тяжелых ранений не могли встать, позорная забава прекратилась. Цирковая прислуга хлынула на арену для исполнения своих чудовищных обязанностей. Они обошли всю арену, вонзая раскаленные железные прутья в распластавшиеся тела гладиаторов, чтобы удостовериться, нет ли среди них живых. Если кто-нибудь из этих несчастных реагировал на прикосновение, его тотчас же добивали ударами железного молотка по голове. Другие слуги таскали трупы длинными железными крюками и засыпали лужи крови серебристым песком. За воротами смерти вне цирка время от времени слышались отчаянные вопли и удары все того же молотка. Это были последние жертвы забав великих римлян. Многие тяжело раненые гладиаторы не приходили в себя даже от прикосновения раскаленного металла, но через некоторое время, после того, как их, подцепив крюком, протащили через всю арену, оживали, и тут, уже в который раз, шел в ход тяжелый молоток, которым слуги окончательно добивали гладиаторов, пришедших в себя уже за порогом цирка.
Возбужденная толпа, сопровождаемая последними воплями на краю уже готовой, вырытой могилы, расходилась беспечно и весело, болтая разный вздор, насвистывая модные мотивы, расточая остроты и любуясь проходящими мимо красотками. Можно было подумать, что все эти люди выходили из театра, где они смотрели забавный водевиль или какой-нибудь веселый фарс. Беспечная толпа, действительно, была свидетельницей веселого фарса, но фарс этот завершался убийствами, и его актеров даже не опускали, а швыряли в могилу, отлично зная, что на место ушедших исполнителей всегда найдутся другие, и бесчисленные скамьи цирка будут заполняться еще не одну тысячу раз. В современном языке нет названия этой лютой, жестокой забаве, которой развлекали себя великие римляне, исказившие человеческую природу чрезмерным обжорством и сладострастием.
Созерцание увлекательных картин человеческой резни и мук предсмертной агонии закончилось. Прекрасная Цецилия вновь нежно улыбалась, ее идеальные черты приняли самое невиннейшее выражение, она беспечно слушала болтовню Альбуцио. И лишь самый внимательный наблюдатель мог бы заметить по легкому содроганию ее розовых губ, что в душе красавицы бушует буря.
Слушая вполуха болтовню Альбуцио, Цецилия время от времени дрожащей рукой вертела талисман — изображение гекаты Тривии, данный ей египетской колдуньей. Очевидно, идея кровавой мести наконец-то полностью овладела ее мыслями.
— Ты призываешь мстителя, Цецилия Метелла? — шепнул ей на ухо знакомый голос.
Красавица вздрогнула.
— Да, я решилась, — тихо отвечала она, — и мне следовало давно к тебе обратиться. От тебя, как видно, ничего не скроется, говори же, научи меня, что я должна делать, чтобы отомстить?
— Здесь неудобно об этом говорить. Если ты доверяешь мне и колдунье-египтянке, если, действительно, убеждена в ее таинственном могуществе и жаждешь мести, то приходи в полночь к дому старого Вецио, ударь семь раз молотком в дверь и, когда тебя спросят, кто ты такая, отвечай: «Аполлоний». Тебя пропустят, но я предупреждаю, ты должна быть одна, без провожатых, непременно одна. Положись на меня и ничего не бойся.
— Я римлянка и патрицианка, — отвечала супруга претора Сицилии, сверкнув глазами, — и страх моей душе не известен.
— Да, конечно, боги не допустят, чтобы кто-нибудь причинил тебе вред, но необходимо хранить все в полной тайне для успешного осуществления наших замыслов. Не забудь принести с собой все вещи, которые остались у тебя после встреч с этим человеком: его письма, волосы, изображения, браслеты, перстни или выбитые на камне медальоны. Ты увидишь, все это нам очень пригодится.
— А если я исполню все твои требования, буду ли я отомщена?
— Конечно, будешь.
— Хотя бы ценой смерти мне будет дано это отрадное чувство?
— Даже ценой его смерти.
— В таком случае, я приду непременно.
— А как же. Я в этом не сомневался, — пробормотал Аполлоний. — А теперь, гений-покровитель рода Вецио, прикрой своими крыльями глаза всем любопытным, пусть одно подземное царство будет посвящено в то, что мы затеваем.
Сказав это, Аполлоний, пробиваясь сквозь толпу, вышел из цирка.
Мы тоже покинем это место любимых забав римских граждан: боя гладиаторов, львов, слонов и носорогов. Избранное общество римских патрициев часто сочувственно относилось к жалобному крику раненых животных, порой, как повествуют современники, на прекрасных глазах красивых матрон сверкали слезы сожаления при виде раненого слона, толпа сочувственно относилась к страданиям животных. Между тем, бои гладиаторов, эта поголовная бессмысленная резня, потоки человеческой крови, хладнокровные убийства, безжалостное добивание служителями цирка раненых людей, смертельная агония не вызывали в этой толпе и намека на сострадание или чувство сожаления. Напротив, она со злорадством взирала на варварские убийства, позор которых даже время не смыло со страниц римской истории.
— Странные мысли приходят в голову, — писал Цицерон, — при виде народа, сочувственно относящегося к страданиям животных и совершенно равнодушно допускающего убийство гладиаторов. Последние, — добавляет знаменитый мыслитель, — казалось, имеют немножко больше человеческого, чем первые?!.
COUX OM PAX[89]
Мрачен, неуютен и загадочен дом старого Вецио. И самое таинственное помещение этого дома — подземная базилика. Вытянутая в длину, она разделялась на три галереи двумя рядами толстых, массивных колонн из черного африканского мрамора. Самым примечательным в ней была драгоценная позолота квадратов пола и мраморных плит черного, красного и желтого цвета. На черном фоне стен красовались фрески с изображением людей, животных и чудовищ, скопированных со знаменитой доски Изиды.[90]
Сторона базилики, расположенная напротив главного входа, представляла собой амфитеатр с мраморными ступенями, окруженными перилами. Два громадных сфинкса, казалось, сторожили вход в святилище, в самом центре которого находился высокий стол. По обеим сторонам от него стояли два обелиска из сиенского и египетского мрамора, исписанные с низу до верху иероглифами. На заднем плане амфитеатра виднелся храмик, перед, которым горело несколько ламп. Храмик был прикрыт лазоревой занавесью. На нем были начертаны таинственные символы и знаки. Во всем этом было что-то величественное и вместе с тем таинственное. На самом видном месте большими золотыми буквами было начертано следующее: «Я тот, кто был, есть и будет. Никто из смертных не поднимет завесы, скрывающей меня».
Справа от храмика, над святилищем находился позолоченный престол, украшенный драгоценными камнями, а вокруг него семь кресел и столько же скамеек. Эта часть базилики была ярко освещена. Все остальное пространство находилось несколько в тени. Там собиралась толпа, разнородная по положению, полу и возрасту. На головах мужчин были миртовые венки, а женщин — покрывала.
На золотом троне восседал верховный жрец или иерофант. Он был в белой, как снег, льняной тунике, спускавшейся до самых ног. Поверх туники был одет великолепный пурпурный плащ, подбитый горностаем. Голову верховного жреца увенчивала шапка, украшенная золотой нитью. В руках он держал скипетр из слоновой кости. На груди сияло судное слово,[91] окаймленное драгоценными камнями, на лоб спускалось белое покрывало, усыпанное звездами и серебряными блестками, искрившимися при ярком свете, озаряя лицо жреца ослепительным сиянием.