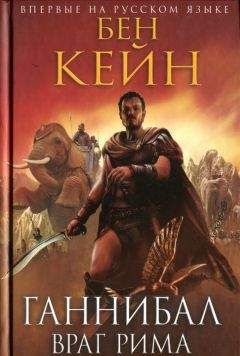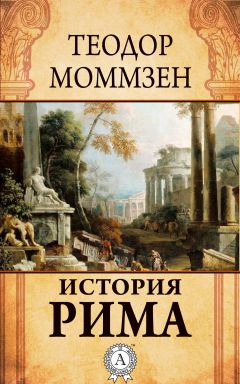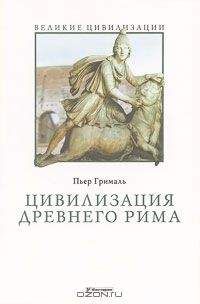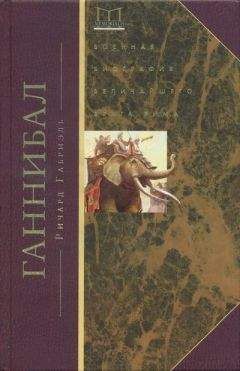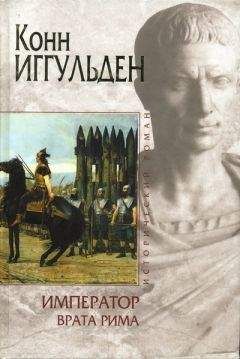Людвига Кастеллацо - Тито Вецио
Между тем как Цецилия Метелла и ее замечательные подруги занимались чужими и собственными делами, множество мужчин с вожделением следили за ними, и в этом перекрещении взглядов, полных страсти и ревности, без труда можно было предвидеть прелюдии к будущим трагедиям.
На местах, предназначенных для сенаторов и главных сановников республики, сидели два человека, одетые в тоги-претексты,[88] приковывавшие к себе всеобщее внимание. Из-за неподвижности и сурового, бесстрастного выражения лиц их можно было принять за мраморные статуи, если бы пламенные взгляды, нахмуривание бровей и беспрестанно выступавшие на лбу морщины не показывали, что это живые люди.
Один из них, высокий, худой, совершенно лысый, с желтоватым, цвета старого пергамента, лицом выглядел на пятьдесят с небольшим лет. Его крючковатый нос походил на клюв хищной птицы, губы были чрезвычайно тонкими, нитевидными, нижняя челюсть уродливо выдавалась вперед, глаза глубоко запали в глазницы и мрачно сверкали, словно два огонька в подземелье.
Но свирепый и антипатичный вид этого человека, при встрече с которым многие невольно испытывали глубочайшее отвращение, был менее ужасен, чем лицо его товарища. Оно также походило на мраморную маску, но скорее африканского происхождения, с беловато-рыжими пятнами, проступившими на лице из-за неизлечимой кожной болезни. Такие физиономии встречаются только у обелисков и египетских статуй, у живых людей они бывают крайне редко. Нос этого человека расширялся к концу, точно у льва, рот был большой с мясистыми губами. Подбородок круглый, голова и все лицо покрыто густейшими волосами рыжего, почти огненного цвета, ниспадающими на плечи, что в еще большей степени увеличивало его сходство со львом. Глаза сверкали, будто сталь острой секиры.
Природа, создавая этого человека, смешала грязь, огонь и кровь и, как бы устыдившись этой чудовищной смеси, надела на его лицо ледяную маску и бросила среди людей, как живую загадку. Это странное создание природы стоило много крови и слез Риму и Италии, перед этим воплощением тирании история останавливается с ужасом и омерзением.
Звали его Луций Корнелий Сулла. В данный момент он был еще простым военным казначеем-квестором, но впоследствии стал консулом и почти пожизненным диктатором Рима.
Друг его, претор Сицилии, Метелл Луций Лукулл, муж прекрасной матроны Цецилии прекрасно дополнял его по своим душевным качествам, вернее, их отсутствию. Впоследствии мы увидим, что за люди были эти два друга.
— Луций Корнелий, ты, кажется, не особенно пристально следишь за своим домом, — сказал с ироничной улыбкой претор Сицилии, — твоя Целия что-то слишком благосклонно слушает болтовню этого недоумка Альбуцио.
При этой злорадной насмешке приятеля в глазах будущего диктатора блеснул огонек ненависти. Однако, черты лица его не изменились, лишь по едва заметному движению губ можно было догадаться, что он заговорил.
— Прекрасная Целия бросает лепестки роз в чашу моих страданий. Но чаша уже переполнена, и стоит только упасть туда еще одному лепестку, и все разольется. Впрочем, ты не можешь похвалиться своей Цецилией, если я не ошибаюсь, она не особенно спокойна, внутри нее должна бушевать буря, а молнии прекрасных глаз, кажется, могут насмерть поразить одного хорошо тебе знакомого молодого человека.
— Вижу, вижу, — гневно вскричал претор Сицилии, — проклятая Африка не сумела избавить меня от этого повесы, несмотря на своих нумидийцев, львов, и змей.
— Представлялось много возможностей для того, чтобы и ты и многие другие могли избавиться от этого красавчика, но судьба его хранила, а фортуна всегда благоприятствовала. Кто знает, может быть, провидение готовит его к какому-нибудь великому делу, или он должен погибнуть в грандиозном пламени еще небывалого пожара, — говорил тоном пророка Луций Корнелий. — Пристально вглядевшись в черты его лица, я обратился к звездам. И хотя одни боги точно знают будущее, а для большинства из нас оно закрыто мрачной пеленой неизвестности, вот что мне удалось выяснить: этот юноша должен любить и ненавидеть, погибнуть или исполнить какое-нибудь великое дело.
— Я предпочел бы его гибель.
— Он наследник старого Вецио, которому ты, насколько мне известно, должен немало сестерций и не торопишься расплатиться.
— Если ты так хорошо осведомлен, то скажу откровенно, — я не могу с ним расплатиться, на это не хватит всего моего состояния.
— Положим, что так… А Метелла?
— Именем всех богов, прежде чем я прибегну к этому средству, я найду другое.
— Кинжал, не так ли?
Лукулл не отвечал.
— Во всяком случае, постарайся найти себе могущественного союзника.
— Не тебя ли?
— Нет, что касается меня, то я еще не решил, должен ли я попытаться сделать Тито Вецио своим другом или отшвырнуть ногой, как камень, лежащий на дороге. Вот разве что Аполлоний.
— Египтянин? В самом деле, он мне кажется способным человеком.
— В особенности, когда дело касается ненависти. Кстати, он имеет удивительное влияние на отца Тито Вецио, старик на все происходящее смотрит его глазами и, может статься, сделает его своим наследником.
— В таком случае, египтянину следует заручиться поддержкой какой-нибудь очень влиятельной персоны, чтобы получить римское гражданство. Ведь право на наследство одного из граждан великого города может иметь только другой римский гражданин.
— А ты, таким образом, — Сулла имел в виду, что именно претор Сицилии может стать такой влиятельной персоной, — избавишься одновременно и от соперника, и от кредитора. О, египтянин прекрасно умеет ставить западни и затягивать петлю на шее врага. Я и сейчас за этим слежу, и честно тебе скажу, наслаждаюсь прекрасным зрелищем.
Если бы внимательный наблюдатель присмотрелся к многочисленным группкам аристократов, явившихся в цирк, то обнаружил бы много интересного. Здесь разгоралась любовь и ненависть, объяснялись в любви словами и нежными взглядами, проводили время в шутках и невинной болтовне, затевали философские споры и заключали деловые сделки. И при этом не забывали смотреть на арену, где ежеминутно совершались убийства, служившие как бы фоном для изысканных светских бесед.
Толпы плебеев представляли не меньше разнообразия, с той лишь разницей, что веселые беседы здесь были шумнее, а цинизм выражался в более резких, грубых и откровенных формах.
В первом ряду амфитеатра, над воротами, предназначенными для выноса мертвых тел, находились некоторые уже знакомые нам лица. Остий, жирный фламин из таверны Геркулеса-победителя, уже почти пьяный, хотя еще не закончилась первая треть дня. Он громко сопел, словно испорченные меха, и непрерывно утирал пот, градом катившийся с жирного лица. Рядом сидел его приятель Скрофа, хозяин гетер, и тут же находился высокий и широкоплечий Плачидежано вместе со своей исполинской супругой, одетой в праздничный наряд и вылившей на себя столько пахучего масла, что его хватило бы на всех гетер вечного города. Кузнец Малей и его любознательный сынок дополняли эту группу, шумевшую громче всех.
Свою цель эти достойные посетители цирка видели, главным образом, в том, чтобы поощрять победителей и осуждать побежденных. При каждом ловком ударе, когда из раны несчастного гладиатора фонтаном била кровь, они неистово аплодировали, насмехались над павшим, и громко кричали «умри», выбрасывая вперед руку с опущенным вниз большим пальцем. Очень весело болтая между собой, они не забывали и про выпивку. Амфора с вином, принесенная ими с собой, безостановочно переходила из рук в руки. Друзья пили и часто лобзали друг друга, нисколько не стесняясь окружающих. Своими некогда белыми тогами они вытирали с губ вино, отчего вся их одежда была испещрена красными полосками. Помимо полос на тогах там и сям виднелись жирные пятна, поскольку кроме амфоры была также принесена корзинка с самой разнообразной провизией.
— Посмотрите, друзья, скорей посмотрите, — кричала толстая супруга трактирщика, аплодируя своими широкими ладонями, больше похожими на две сковороды. — Однако, какую славную штуку он выкинул, ухватил-таки своего противника за шею, так, хорошо, души его, прекрасно, просто замечательно, вот он уже синеет и высунул язык! Так ему и надо, браво, браво. Ага, замахал руками, точно учится плавать, но очень скоро перестал… замотал головой, словно отказывается умирать, теперь что-то шепчет, наверное, молит о пощаде.
— Так умри! — завопила трактирщица, и побежденный был добит.
Супруг колоссальной дамы, трактирщик Плачидежано, в качестве заслуженного гладиатора пользовался большим авторитетом у своих приятелей. Он, как уже немолодой человек, был недоволен увиденным и с грустью восклицал, что все в мире приходит в упадок.