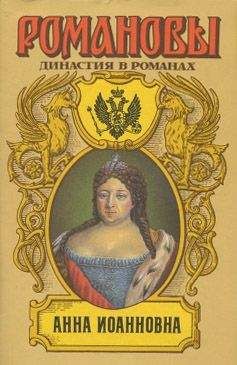Алексей Десняк - Десну перешли батальоны
— Черт его побери… — громко прошептал Кирей.
Шульц подошел к Дорошу, смерил его взглядом с ног до головы, пустил сигарный дым в лицо. Дорош отвернулся и помахал рукой, прогоняя густой клубок дыма. Шульц поднял руку в лайковой перчатке и ударил Дороша по лицу. Толпа охнула. Дорош схватился за рот. По пальцам на бороду стекала кровь.
— За что?
Шульц ударил еще раз. Дорош упал. Шульц что-то крикнул своим солдатам и вернулся на паперть.
К упавшему подбежало трое немцев, они схватили его под руки и потащили с погоста в штаб.
Долго смотрели крестьяне вслед Дорошу.
— О-о, этот наведет порядок! — громко сказал Рыхлов, обращаясь к тестю.
Бровченко услыхал эти слова и, задыхаясь, прошептал Мусе:
— Инквизиторы!
Марьянка опять не поняла этого слова.
Рыхлов пошептался с Шульцем, потом крикнул толпе:
— Господин офицер советует избрать старостой Писарчука. Поднимайте руки!
Поднялось и сразу же опустилось несколько рук. Одним взглядом Шульц обвел сход и что-то крикнул. Солдаты шагнули вперед. Рук поднялось больше. Шульц удовлетворенно усмехнулся.
— Теперь слово имеет Платон Антонович! — объявил Писарчук.
Соболевский с трудом взобрался на паперть. Несколько раз кашлянул и сказал:
— Клуню мою сожгли — это тысяча рублей! Готовые дрова из лесу развезли по домам — это пять тысяч рублей! Трезора убили — это пятьсот рублей… До следующего воскресенья верните мне деньги: девять тысяч пятьсот рублей. Слышали?
— Слушались большевиков, люди добрые, так платите! Разве я не говорил, не водитесь с Надводнюком! Вот и радуйтесь теперь! Мы с Вариводой разбросим, сколько кому на двор, и объявим вам. А теперь идите и живите мирно, помните, что офицер — человек сурьезный, — пригрозил Писарчук.
Крестьяне нахлобучили шапки и, будто зачумленное место, быстро оставляли погост. Тяжело ступал среди соседей Ананий.
— Ничего платить не будем!
— А они придут и заберут все до нитки!
— Если мы все не будем платить, так не заберут… Эх, надо было Платона тогда придушить… — жалел Ананий.
В другой группе чертыхался Кирей:
— Вот до чего дожили, родимые!.. Черт его побери, где он взялся на нашу голову? Заберут, заберут все… Пустят с сумой по миру…
— Трудно с панами бороться. Управься с паном, когда за ним такая сила! — безнадежно качал головой Мирон…
Со схода Бровченко возвращался подавленный и возмущенный. Ему казалось, что дикий поступок Шульца на сходе еще не имел себе равных. Бровченко шел и повторял слова Яковенко: за что? Вопрос клином входил в сознание Петра Варфоломеевича. Ему было и больно, и гадко. Бровченко чувствовал, что одинаково ненавидит и Шульца, и Рыхлова.
Рыхлов, поп Маркиан, тесть и Писарчук благословили Шульца на расправу с крестьянами. Бровченко прекрасно понимал, что Шульц и сам мог бы поступить так, как поступил, но поддержка Рыхлова придавала ему еще больше уверенности. Сегодня на погосте Петр Варфоломеевич как никогда почувствовал свое одиночество и бессилие. Рыхлов — в союзе с Шульцем и Писарчуком, фронтовики сгруппировались вокруг Надводнюка, а вот он — в стороне… С войны он принес ненависть к войне, а здесь изо дня в день росла еще одна ненависть — к Шульцу и своим родственникам. Но горше всего было сознавать свою беспомощность.
У ворот его ожидали Муся и Марьянка, которые раньше других ушли со схода. Петр Варфоломеевич заметил во взгляде Марьянки укор. Но разве он виноват? Сила у них… Но в ту же минуту ему показалось, что девушка права. Почему? Он на это не мог ответить.
Марьянка вздохнула.
— Я хочу вас просить, Петр Варфоломеевич… — и помолчала. Бровченко опустил глаза. Марьянка еще раз вздохнула, Бровченко показалось — безнадежно, и продолжала:
— Я хочу вас просить… Может быть, вы узнаете, что они хотят сделать с ревкомовцами? Только узнать…
От неуверенности, с какой был задан вопрос, и этого повторяющегося «только узнать» Петру Варфоломеевичу стало больно. Значит — ему не верят… Недаром Марьянка так безнадежно вздохнула. Но он не обиделся. Подошел к девушке:
— Я узнаю, если это будет возможно.
Марьянка встрепенулась, ее черные глаза блеснули. Она схватила Петра Варфоломеевича за руку:
— На вас одного надежда! Я буду каждый день наведываться.
Она попрощалась и ушла, а через полчаса с узелком в руках уже бежала через луг на Забужин хутор, чтоб принести Павлу известие об аресте ревкомовцев.
* * *
— Это — конец революции… — сказал шепотом Логвин Песковой Надводнюку, когда немцы бросили в погреб Дороша Яковенко. В словах Логвина была глубокая тоска и отчаяние. Надводнюк сел рядом с Дорошем, стер с его лица сгустки крови, укрыл товарища своим пиджаком и стал расспрашивать, за что Дороша били немцы. Рассказывая, Яковенко вглядывался в темноту. На охапке соломы, в углу сидел Бояр, рядом с ним, опершись спиной о сырую стену, — Малышенко. Песковой, заложив под голову руки, лежал на соломе. В каменном мешке было очень темно, сквозь окошечко под потолком еле-еле пробивался свет.
Дмитро наклонился к Песковому:
— Кто вам сказал, что революции конец?
Песковой закашлялся. У него от сырости в погребе болела грудь.
— Народ поднимать надо, а поднимать теперь некому…
— Как некому? — удивился Надводнюк. — А партия большевиков?
— Ты, Дмитро, коммунист, и тебя немцы вместе с нами посадили в погреб… Возможно и расстреляют. Так по всей Украине.
Надводнюк присел рядом с Песковым.
— Не всех коммунистов засадили в погреба. У партии хватит сил поднять восстание против немцев!
— Да, но ведь сила у них. Вооружены до зубов… — простонал Яковенко.
— Мы их будем бить их же оружием.
— О-о, дай только выбраться из этого погреба! — погрозил Бояр.
— Ну, и что ты сделаешь?
— Вокруг села — лес… Э-э, знали б, что делать!
Поздно вечером часовой приоткрыл двери и бросил в погреб мешочек. Надводнюк развязал его. Там был нарезанный ломтями хлеб и кусок сала. Кто принес — неизвестно… Сели ужинать. Бояр узнал хлеб — такой печет его Наталка. Малышенко узнал сало. Ужинали молча. Потом, прижавшись друг к другу, легли спать…
Утром в погреб пришел Шульц. Понюхал воздух, поморщился и вышел, оставив двери открытыми. Потом он снова спустился в погреб. Ординарец внес стул. Офицер уселся, а ординарец и переводчик застыли тут же, за его спиной. Шульц, как всегда — причесанный, надушенный, со стеком в руке и сигарой в зубах.
Переводчик сказал:
— Пан офицер просит передать, кто отдаст свое оружие, того он прикажет сейчас же освободить.
Надводнюк ответил за всех:
— У нас нет никакого оружия! Вы же делали обыск и ничего не нашли!
Шульц поморщился. Переводчик сказал:
— Пан офицер просит передать, кто скажет, где документы о добровольцах Красной гвардии, того…
Надводнюк перебил его:
— У нас делали обыск и ничего не нашли!…
Шульц долго раскуривал сигару: кольца дыма плавно поднимались к потолку и расплывались по погребу. Арестованные наблюдали за офицером. Внезапно он выхватил из кармана пять сигар, протянул арестованным.
— Спасибо, у нас есть свой табак, — ответил Бояр. Офицер прищурился и спрятал сигары.
Переводчик снова сказал:
— Пан Шульц просит передать: кто укажет коммуниста, того… он немедленно освободит.
Надводнюк усмехнулся.
— Скажите пану офицеру, что нас посадили сюда зря. Коммунистов тут нет! Мы — бедные крестьяне! Землю обрабатываем.
Шульц вскочил. Махнул стеком, что-то крикнул и вышел из погреба. Ординарец забрал стул. Переводчик сказал с порога:
— Пан офицер сказал: не сознаетесь — прикажет расстрелять.
Загремел засов.
В погребе долго молчали. Потом Песковой закашлялся и яростно выругался.
— И расстреляет, что ему…
— Если будем держаться одного: «ничего не знаем!» — не расстреляет. Придраться не к чему, — высказал свою мысль Бояр. Все так думали: Григорий говорил правильно.
Шульц больше не заходил. Сидеть в погребе было очень тяжело, а особенно теперь, когда на поле начиналась работа. Хоть на свободе и не веселее, но все же там немцы ни свежего воздуха, ни солнца отнять не могут. Три раза в день арестованные сквозь окошечко слышали рев скота — немцы тут же во дворе резали коров и свиней.
Вечером патрульный снова бросил в погреб буханку хлеба и поставил горшочек пшенной каши. Кашу арестованные ели по очереди — на всех была одна ложка. Каша не насытила. Тогда начали жевать мягкий, верно, только что испеченный хлеб. Вдруг Малышенко вскрикнул от удивления:
— Хлопцы, бумажка в хлебе!..
Все бросились к нему. Надводнюк осторожно разгладил небольшой листок бумаги… Было темно, разобрать ничего нельзя было.