С. Урусов - Записки губернатора
В Хотин я приехал, помнится, в пятницу и остановился на городской квартире местного предводителя дворянства П.Н. Крупенского. В тот же день мы отправились посмотреть знаменитую древнюю крепость, построенную турками на берегу Днестра. Вид этого сооружения в высшей степени величественный, и отдельные части крепости хорошо сохранились. Затем последовали обычный прием, разговоры, ходатайства, прошения, осмотры учреждений, чередовавшиеся с завтраками и обедами у П.Н. Крупенского, бывшего гусара, сумевшего устроиться и в Хотине с барским комфортом, состоятельного, умеющего пожить холостяка.
Из хотинских впечатлений я особенно ясно помню два: обедню в православной церкви и царский молебен в еврейской хоральной синагоге.
Я до того времени никогда не бывал ни в одной синагоге и потому с большой готовностью согласился на просьбу местных евреев посетить их богослужение.
При входе в храм я был встречен раввином и несколькими евреями, из числа наиболее влиятельных и уважаемых в городе; все они были в черных сюртуках, цилиндрах и белых галстуках. Мы вошли в обширную залу, уставленную длинными деревянными скамьями, напоминавшими гимназические парты, но прекрасно сработанными и отполированными. Стены и потолок синагоги были отделаны очень скромно, без пестроты и украшений; никаких изображений на них не было, получалось впечатление строгой простоты и серьезности. Противоположная от входа часть залы возвышалась на несколько ступеней, и на этом возвышении, перед священным ковчегом, в котором хранились свитки Торы, помещались кантор, певцы, раввин и несколько хорошо одетых евреев, по-видимому, имевших особое отношение к синагоге по своему происхождению или общественному положению. Меня провели по широкому среднему проходу к первой скамье, после чего кантор, надев пеструю хламиду, стал читать нараспев, прерываемый по временам возгласами хора. Среди незнакомых звуков древнееврейского языка я вскоре услышал слова «Николай Александрович» и «Александра Феодоровна» с ударениями на последнем слоге, а затем разобрал и свое имя, провозглашенное кантором с особой отчетливостью. После этого молитвословия кантор и певцы повернулись лицом к молящимся и превосходно спели «Боже, Царя храни». В эту минуту мне впервые пришлось, неожиданно и быстро практически разрешить трудный вопрос этикета: в синагоге нельзя снимать с головы шляпы, а народный гимн надо слушать с непокрытой головой. Я вышел из затруднения, приложив руку к козырьку форменной фуражки, как бы отдавая кому-то честь, и в таком положении прослушал гимн. Второе отделение службы состояло в исполнении кантором и хором музыкальных пьес, напоминавших мне смутно знакомые оперные мотивы, которым был однако придан, путем некоторых изменений, какой-то оригинальный восточный характер. Среди хора все время выделялся удивительно чистый, сильный и верный альт, на который нельзя было не обратить внимания. Стоявший недалеко от меня раввин сказал мне, что этот замечательный голос принадлежит 13-летнему мальчику, сыну бедного портного, и предложил послушать его в сольном пении. Я отошел к противоположному концу залы и стал у выхода, чтобы лучше оценить юного певца. Без преувеличения скажу, что такого альта я в жизни ни разу не слышал; он наполнял всю залу, пел необыкновенно уверенно, с удивительным драматическим подъемом, исполняя какое-то незнакомое мне произведение Мендельсона. Хор еле слышными аккордами аккомпанировал певцу, достигавшему высокого эффекта, которому вредило по временам только излишнее форсирование звука. Я пришел в положительный восторг и, желая чем-нибудь отблагодарить певца за доставленное наслаждение, спросил раввина при прощании, могу ли я подарить мальчику золотой. Раввин как-то смутился и ответил, что в субботу евреи не могут принимать денег, но что какую-нибудь вещицу на память мальчик мог бы, конечно, взять с благодарностью. Никакой вещицы у меня с собой не было, и я уже хотел отказаться от мысли о подарке, когда изобретательный раввин, желая очевидно, сделать мне удовольствие, придумал гениальный выход из затруднительного положения. Он провел тонкое различие между золотым, как денежным знаком определенной ценности, и тем же золотым, как предметом, имеющим значение подарка, вне зависимости от его цены, и блестяще разрешил вопрос сказав, что маленький певец может принять от меня золотую монету не как деньги, а как золотую вещь. Так мы и поступили, к общему удовольствию.
В субботу, еврейский раввин проявил изворотливость ума для обхода закона, запрещавшего взять от меня то, что я сам хотел дать; в воскресенье, православный священник постарался воспользоваться евангелием, чтобы получит от меня то, чего я давать не собирался.
Отстояв в православной церкви обедню, к которой меня усиленно приглашал накануне один из местных священников, я был не мало удивлен содержанием краткой проповеди, произнесенной им перед концом службы. «В некое время», — так приблизительно начал проповедник, — «Господь наш Иисус Христос пришел к Генисаретскому озеру и увидел рыболовов, моющих у лодок сети свои. Войдя в лодку одного из них, Симона, Спаситель предложил ему закинуть сеть в озеро, но услышал в ответ, что рыбаки всю ночь трудились напрасно, не поймав ни одной рыбы, и потеряли надежду на успех ловли. Однако, закинув снова сети по слову Спасителя, они вытащили великое множество рыбы, так что наполнили ею две лодки».
«Какой же урок почерпнем мы из сего события, возлюбленные братия?» — воскликнул с пафосом священник. «Очевидно для нас, что присутствие великого человека отменную пользу может принести тем, кого он посещает. Нам, благочестивые слушатели, в особенности должен быть понятен смысл выслушанного евангельского сказания: наш храм посетил сегодня великий человек мира сего, посланец царский, начальник нашей губернии. Будем же молиться и ждать от сего посещения великих и обильных для себя благ».
Когда я вернулся из церкви домой, мне доложили о приходе только что выслушанного мной духовного оратора. Он явился просить за сына своего, выгнанного отовсюду пьяницу, которому я должен был, по мнению его отца, предоставить место полицейского надзирателя. Отказ мой исполнить эту просьбу очень огорчил посетителя, который, по-видимому, был вполне уверен в благоприятном исходе задуманного плана.
Совершенно особое положение в Бессарабии занимает Измаильский уезд, вновь присоединенный к России в 1878 г., после войны с Турцией. Ранее, уезд этот входил в состав Румынии и разделялся на три префектуры — Измаильскую, Болгарскую и Кагульскую с главными городами тех же названий. Присоединение совершилось очень просто: образовали из трех префектур один уезд, фактическим начальником которого стал назначенный в том же году измаильский исправник Шульга, опытности и такту которого было предоставлено примирять и сообразовать оставленные в силе для Измаильского уезда румынские законы с общими законами Российской империи. Ни дворянских учреждений, ни земства, ни волостного и сельского управлений с земскими начальниками не было в Измаильском уезде, в котором сохранилось румынское коммунальное устройство. Каждое поселение, как сельское так и городское образовывало коммуну, в состав которой входили все владельцы земли и все жители поселений без различия состояния, классов и т.п. Исполнительный орган коммуны — примар, с коммунальным советом из 12 членов, вершил все дела самоуправления и выполнял те общегосударственные обязанности, которые передаются в России местным учреждениям.
Губернатор мало вмешивался в дела местного управления Измаильского уезда; те из них, в которых государственный интерес не был затронут, разрешались коммунами самостоятельно, а прочие зависели от исправника, заменившего бывших румынских префектов. К губернатору перешли, в отношении самоуправляющихся единиц уезда, функции королевской власти, а петербургское начальство совсем не касалось Измаила, и имело самое туманное представление об устройстве названного уезда. Однако, в министерстве внутренних дел не прекращалась забота о введении в Измаиле русских учреждений — земских начальников, волостей, дворянства и нового земско-городового положения, но государственный совет всегда отвергал такого рода проекты министерства под предлогом недоказанности и недостаточной обоснованности идеи о необходимости разрушить старый местный строй во имя общей нивелировки управления. Так и остался Измаильский уезд до сего времени исключением в русском уездном строе; ему, вероятно, суждено дождаться общей реформы нашего местного управления, если он опять, по какой-нибудь международной комбинации, не отойдет к Румынии, простирающей к нему материнские объятия через пограничную реку Прут.
Меня заинтересовало двойственное и неопределенное положение измаильских старообрядцев. Как известно, у нас в России, до самого последнего времени и господствующая церковь, и правительство беспощадно относились к старообрядчеству. В то время, как мечети и синагоги пользовались свободой существования и даже правительственной защитой, христианские костелы и кирки только терпелись; что же касается старообрядческих молелен и церквей, то их преследовали всевозможными способами. Особые доносчики, под названием православных миссионеров, внимательно наблюдали за тем, чтобы полиция не увлеклась сознанием близости старой веры и новой, или, вернее, ничтожеством различия между старым и новым обрядом, и не оказала преступного «попустительства старообрядческому доказательству». С этим последним термином у меня было немало возни в Измаиле. Местные старообрядцы, а их в уезде было не мало, оказали во время войны с Турцией значительные услуги русскому войску; неловко было, присоединив их к России, немедленно начать применение к ним мер в духе православного фанатизма. Появился хорошо известный всем старообрядцам секретный циркуляр губернатору с изложением высочайшего повеления запрещавшего слишком притеснять измаильских раскольников в их обрядах, пока таковые исправляются без смущающего православную церковь доказательства.

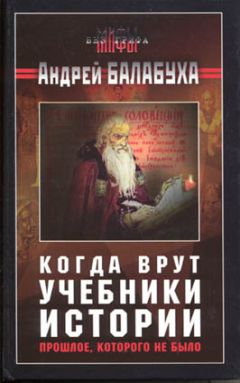
![Андрей Балабуха - Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было [без иллюстраций]](/uploads/posts/books/168497/168497.jpg)
