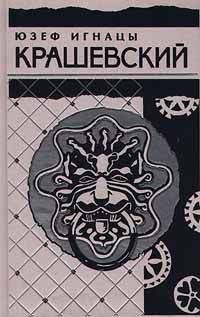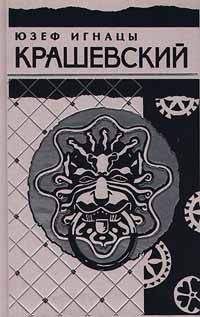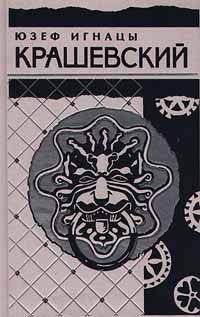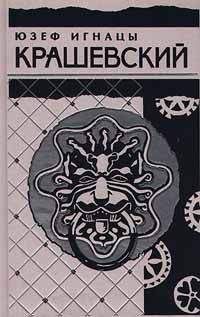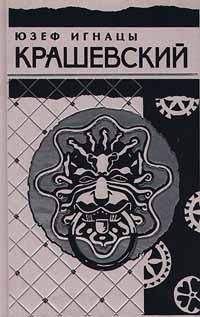Юзеф Крашевский - Болеславцы
Несчастный был еще в той самой простой сермяге, в которой его взяли; только она, казалось, еще больше почернела от темничной грязи. В волосах его висели клочья соломы от подстилки, лицо грязное и закопченное, а посреди него зловеще искрились глаза… Он выслушал свой приговор без стона.
Христя, только теперь увидевшая мужа, догадалась, в чем дело, и в ужасе, с воплем бросилась на шею короля, сжимая его в объятиях, точно ища у него защиты.
А Болеслав весело смеялся своей шутке…
— Гляди же! — крикнул он Мстиславу. — И охота тебе добиваться такой изменницы? Слышал ведь, что она сказала? Я нарочно велел притащить тебя сюда, чтобы ты увидел и слышал.
— Убирайся теперь с Богом, прочь с моих глаз! Не вынуждай меня запятнать себя твоею кровью! Даже глаза тебе не выколю, чтобы ты мог обойтись без поводыря!
Мстислав стоял как столб… Он несколько раз пытался ринуться вперед, как бы стараясь вырваться из рук державших, но сильные ребята не дали ему сделать шага.
Христя забилась в угол. Закрыла глаза и плакала от страха. А король медленным шагом, не спуская глаз, подошел к своему узнику.
— Ступай, — сказал он, — сломи себе шею… а мне на глаза не смей показываться! Иди! Теперь ты знаешь, что возвращаться незачем. Ты мне обязан жизнью… я бы мог казнить тебя, и никто бы даже о тебе не вспомнил. Дарю тебе жизнь, потому что не давлю червей… Прочь!
И он дал знак ребятам.
— Вывести за ворота и вышвырнуть из замка! — крикнул он. — Да хорошенько показать страже: пусть заглянут ему в глаза, и если хоть раз покажется у замка, убить как пса!
Король отвернулся. А холопы повели Мстислава за дверь, в сени, а оттуда на двор. Мстислав, обессилевший от гнева, горя, заточения и голода, не мог сопротивляться, и хотя губы его шевелились, он не был в состоянии вымолвить ни слова. Измена Христи нанесла ему смертельный удар: он сам видел в слышал, чем был для нее в прошлом… и, несмотря на то, все же не хотел и не мог поверить.
Едва вывели его на двор, как страсть, приковывавшая его к распутнице, вновь овладела им и отвергла всё, что сейчас услышал и увидел. Мстислав внушил себе, что Христя умышленно притворялась влюбленной в короля, чтобы спасти жизнь мужа. Он не мог, он не был в состоянии отделаться от самообмана, и мысль о жене вернула ему силы.
Не жалея побоев и толчков, холопы, глумясь, потащили его к воротам. Прикрикивали, смеялись, показывали встречным, повторяли угрозы короля, подкрепляя их палками и кулаками, не боясь отпора, потому что руки Мстислава были связаны.
Собралась целая толпа, и так, при всем честном народе, его свели к воротам, где замешкались со стражей, чтобы подольше натешиться над жертвой.
Мстислав стоял как полумертвый, точно ничего не видел и не слышал; все в нем застыло. Перед глазами неотступно мелькала Христя, и мерещился безжалостный, озверелый король. Хотя он был обязан ему жизнью, Мстислав все же поклялся отомстить… Не скоро челядь всласть натешилась над беззащитным человеком, не обнаружившим ни озлобления, ни боли… Тоща, не развязывая рук, его вытолкнули из ворот на проезжую дорогу.
Как только холопы его выпустили, Мстислав упал, не имея ни сил, ни желания подняться.
Была глухая ночь; издали доносились из дворца голоса и песни пировавших, когда Мстислав наконец встал и, покачиваясь, с большим трудом направился к предместью. Связанные руки, перетянутые врезавшеюся глубоко веревкой, сильно ныли и мешали двигаться; ноги от лежанья на соломе не слушались, а сырость и гнилой воздух надломили силы. Он был точно сам не свой, отуманенный страданием и лихорадкой, а в глазах мелькали, то Хри-стя, то король, то надвигался непроглядный мрак темницы, в которой он был замкнут как в могиле.
На замковой дороге было пусто. В предместьях не было нигде огня, и люди попрятались по хатам. Только издали доносились вой и лай собак. Покачиваясь, опираясь о заборы, Мстислав спустился с замковой горы. Он не знал, куда идти, стоило ли возвращаться в Буженин, где, может быть, уже хозяйничали королевские холопы. Сам не понимая, как это случилось, дотащился он до домика на Скалке, у костела, где жил епископ, избегавший королевского соседства. Сквозь щели ставень в одной из комнат виднелся свет; кругом все было тихо.
Добравшись до порога, Мстислав лег на крыльцо; но, опускаясь, задел за дверь, которая скрипнула и задрожала. Внутри раздались торопливые шаги… послышался лязг засова.
В дверях появился юноша в духовном платье и со светочем. Он стал внимательно разглядывать лежавшего, которого сначала счел за пьяного бродягу. Только увидев связанные руки, клирик вскрикнул, опустился на колени, и видя слабость несчастного, стал торопливо распутывать узлы.
Мстислав едва успел назвать себя и произнести: "Епископ!" — как потерял сознание и, падая, ударился головой о каменный порог.
Сразу же сбежались епископские служки, а так как имя Мстислава было всем хорошо известно и повторялось из уст в уста, то несчастного немедленно подняли, внесли в дом и дали знать епископу, который еще не спал.
Нашелся ковш воды, вернувший Мстиславу сознание. Опомнившись, он с помощью прислуги вошел в комнату, где на пороге поджидал его хозяин, приветственно протягивая руки.
— Иди, дитя мое, — сказал епископ, — я дам тебе приют и успокою! Хвала Богу, что ты остался жив!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Комната, в которую епископ ввел Мстислава, была небольшая клетушка, такая же бедная и скромная, как все помещение, занятое Станиславом из Щепанова. Только по стенам ее были размещены великие сокровища: целые полки, почти сплошь заставленные огромными фолиантами в деревянных окладах, с медными и костяными украшениями. Они лежали и стояли вперемежку и друг на друге; очевидно, их поминутно снимали с полок и клали обратно, а незакрытые застежки некоторых из книг доказывали, что ими недавно пользовались.
Этот неоценимый для того времени клад епископ привез с собой в польские земли после семилетнего пребывания в Париже. После Бенедиктинского, книгохранилище епископа занимало первое место по числу книг; а на приобретение их ушло целиком почти все его отцовское наследие, ибо рукописи ценились тогда почти на вес золота.
Среди комнаты стоял стол с аналоем для чтения и письма, с высоким сиденьем и всеми прочими тогдашними приспособлениями для письма: тростниковыми ручками, едкой жидкостью и пергаментом. Здесь же, в шелковом мешочке лежала овальная епископская печать, шнурки и воск для оттисков. Рядом горела итальянская лампочка (плошка, светильник), фитиль которой плавал в маслянистой жидкости. При свете этой лампадки епископ читал развернутую на аналое книгу…
Шум и появление Мстислава помешали дальнейшему чтению…
Епископ смотрел на пришедшего и ломал руки от горя. Вид Болеславова узника был ужасен и вызывал сострадание. Изможденное лицо, взъерошенные волосы, блуждающий взгляд, запекшиеся губы; руки, в кровавых рубцах от веревок; рваная и грязная одежда, под которой виднелась обнаженная, исхудалая грудь; необутые ноги… вся внешность истомленного и ослабленного заточением и муками узника, делали его почти неузнаваемым и ничем не напоминали того Мстислава, которого епископ знал жизнерадостным, веселым, предприимчивым земским мужем, с барскими замашками и не плохими достатками.
Он, который недавно еще был в числе первых и по богатству, и по влиянию на дела рыцарства, дошёл теперь до последних пределов нужды и страданий.
Епископ знал, что Мстислав был брошен в темницу; увидев его на свободе, но связанного, он подумал, не чудом ли спасся Мстислав из королевской неволи.
— Хвала Господу Иисусу Христу! — воскликнул он. — Но как и чьими стараниями обрел ты свободу?
Мстислав сразу не мог ответить. Он закрыл руками лицо, тяжело дышал, и было видно, как трудно ему извлечь слово из стесненной груди. Он долго стонал и метался, прежде чем ему вернулся дар речи.
— Он, он! — воскликнул Мстислав. — Велел меня выпустить, нанеся смертельный удар. Извел меня раньше, чем вышвырнул. Велел притащить из темницы, чтобы я видел, как Христя любилась с ним… и навек отреклась от меня. Но не может этого быть! — воскликнул он страстно. — Нет! Христя умышленно оговорила себя, да, оговорила! Чтобы спасти мне жизнь… Нет… нет… он силою держит ее, заставляет исполнять свою волю… не по своей охоте она изменяет… нет, нет!..
С улыбкой, исполненной неизъяснимой жалости, горестно смотрел епископ на Мстислава, не желая перечить в том, что было единственною утехой несчастного.
— Дитя мое несчастное, — молвил он, — пойди, отдохни и помолись Богу, чтобы он утешил тебя; и я также буду молиться о тебе. Проси у Бога, пусть он научит тебя, что делать.
— Как что? — вскричал Мстислав и, собрав последний остаток сил, ударил кулаком по лавке. — Как что? Мстить! Мстить ему!.. Отдохну, наберусь сил и поеду к роду своему и прочим земским людям, от двора к двору, покажу им, чем я стал по королевской милости!.. Пусть ведают да знают, что их ждет… Сегодня я… завтра они… Отмщу!.. — повторил он еще раз и, ослабев, склонился: на скамью, затратив остаток сил на взрыв негодования.