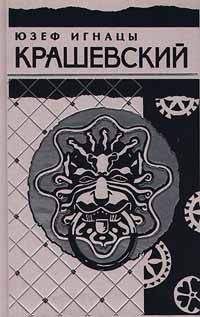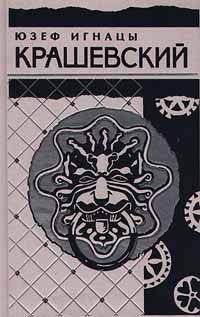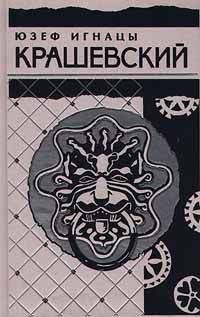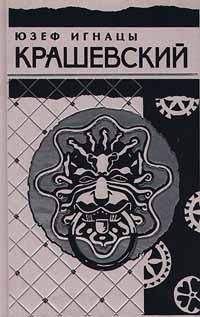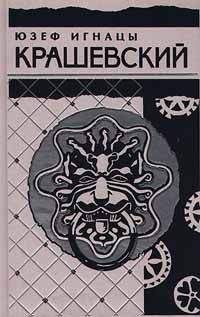Юзеф Крашевский - Чудаки
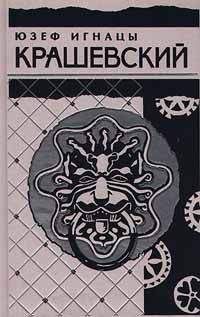
Обзор книги Юзеф Крашевский - Чудаки
Крашевский Иосиф Игнатий
Чудаки
I. Господину Эдмунду Суше, в Варшаву
Тужа-Гора, 20 сентября 184… г
Дорогой Эдмунд!
Пожалей обо мне, если образ твоей жизни и твои занятия дадут тебе время вспомнить о твоем друге. Наконец, я в Тужей-Горе, и ужасно скучаю. Я предвидел это, и предчувствие мое вполне осуществилось. Мало того, что я скучаю, но и в перспективе ничего не вижу, кроме мрачной и унылой скуки! Сердце рвется у меня из груди, голова кружится, гнев и бешенство терзают меня при мысли, что вы веселитесь в Варшаве, а я здесь зеваю.
Я научился зевать, спать, научился смотреть по полтора часа в окно, считать доски и гвозди в полу, считать брусья на потолке (нужно тебе сказать, что здесь потолки из брусьев, а полы из сосновых досок, прибитых попросту гвоздями, с торчащими снаружи головками). Но подожди, «не вдруг Краков был воздвигнут»; узнаешь все, только имей терпение.
Ты знаешь хорошо, что я, будучи в долгах, преследуемый завистливою судьбой, обманутый Лаурой, не находя нигде покоя от Шмуля Мальштейна, чуть не попал в тюрьму за расходы свыше моего состояния. В это критическое время вспомнил я однажды вечером, что у меня есть очень богатый двоюродный дед, бездетный старик, огромным наследством которого с нетерпением ожидали поживиться дальние родные. Знаешь, как вдруг сила родства притянула меня к нему, как пожелал я деревни, охоты, уединения, тишины, отдаленного приюта и отдыха. Ты знаешь тоже, как мы расстались с дорогими приятелями за бутылкой шампанского, как я, упившись Монтебелло и надеждой, сел в коляску, выигранную у Альфреда, и в сопровождении трубы почтальона, отправился в неизвестные страны. За собой оставил я безутешного Мари,[1] которому должен был около двух тысяч злотых за последний завтрак, очаровательную Лауру, хороших приятелей, которых я обыграл, готовясь в дорогу, и Шмуля Малыптейна, который, поглаживая свою седую бороду, поднимал глаза к небу, как будто думая, что я уношусь в колеснице, подобно Ильи пророку. И в самом деле, кто из вас, оплакивающих меня теперь, не признает моих добродетелей! Прогнал ли я когда-либо жида, натравил ли на него собак, или, не воздержавшись, выругал его? Не уважал ли я в нем тех денег, которые он мне дал, и которые мог еще дать? Не был ли я вежлив с кредиторами, как маркиз XVIII-го столетия, и щедр, как русский боярин, но только на бумаге. После измены Лауры сделал ли я ей малейшую невежливость, на которую подстрекало меня мщение? Не кланялся ли я ей всегда, сделал ли я хотя ей упрек?.. Да можно ли вычислить все мои добродетели, которые все вместе теперь выступают предо мною, и кланяются, как разжалованные слуги!.. А вы, приятели мои, не признаете ли, что я принимал за чистую монету пенковые трубки, колечки с волосами, позволял ставить в банк портсигары; а, проигрывая, не платил ли до последнего пятизлотника? Не признаете ли вы, что я пил, не заставляя просить себя (даже плохое вино), был секундантом, хотя это пахло тюрьмой, и стрелялся с недавно возвратившимися из Парижа львами, которые доказали ловкость своих выстрелов на трефовых десятках у Лепажа и Девима. Увы! Нет ничего менее полезного, как общественные добродетели. К чему они мне теперь пригодились? Таланты, знания, опыт, которые я дорогой ценой приобрел в Варшаве, лежат теперь трупами предо мною: достаточно сказать, — я в Тужей-Горе. Но ты не имеешь о ней ни малейшего понятия, а потому начну с самого начала; до сих пор я писал с конца, то есть с жалоб.
Коляска моя катилась по неровной мостовой, спускаясь к Пражскому мосту; я же, закутанный в шинель, притворился спящим, открыв только один и то не весь глаз, боясь, чтобы Шмуль Мальштейн, или мимо ехавшая Лаура не узнали меня, и чтобы первый, схвативши меня за ворот, а другая за сердце, не задержали. И видел я одним полуоткрытым глазом все житейские сцены, с которыми я расставался. Город кипел, суетился, как вчера; никто не чувствовал лишения; никто не сожалел о моем отъезде: как было при мне, так и без меня!! Никто не надел после меня траура. Пораженный такою неблагодарностью, я отряхнул прах с ног своих и произносил красноречивое проклятие городу до самой заставы. У заставы, расставаясь с остатками городской жизни, почтальон начал громко трубить, а я уснул… Когда я проснулся, мы проехали уже Милосное, а вместе с сумерками напала на меня горькая тоска. Я думал о вас, и завидовал вам, зевая во весь рот. Они там весело проводят время, и никто обо мне не вспомнит! Лаура сидит на коленях генерала, приглаживая его хохолок и крашеные усы; Шмуль дает взаймы Станиславу, как и мне бывало давал, а Мари откармливает деревенские желудки помещиков, приехавших в Варшаву, которые не знают, чему более удивляться: тому ли, что так вкусно едят, или что так дорого платят? Перебегая от одной мысли к другой, я неизвестно как дошел до размышления о своем будущем. Очутившись в этом незнакомом мне доселе положении, я сам сперва очень удивился. Оно было для меня совсем ново, — я пришел к нему инстинктивно.
Сирота, потеряв все, что имел, втянувшись в долги, не имея ни друзей, ни желаний, ни надежды в потухшем и высохшем сердце, имея только сто червонцев, колясченку и неоплаченного Станислава (Станислав неоплачен, потому что уже два года не получал жалованья), я пустился по волнам бурного моря приключений и судьбы. Я еду к деду, который никогда не видел меня, который вряд ли знает, жив ли я, к которому я не писал с тех пор, как матушка приказала мне написать ему по двум линейкам поздравительное письмо. Как он меня примет теперь? Что выйдет из моего путешествия? Жив ли он? Кто он? Те и другие вопросы приходили мне на ум, но ответа я не находил. Попробуем, говорил я про себя. О фантастическом дедушке своем я знал только, что он богат и что, вероятно, мне очень трудно будет его укротить и понравиться ему. На рассвете я снова проснулся после различных сновидений, разбитый и утомленный, около местечка Белы, где старый замок, будто бы радзивилловский, сияет белыми ребрами своими, словно скелет кита, брошенный рыбаками на морском берегу. Отдохнувши здесь, я отправился дальше, а приехав в Брест-Литовск, изучил географию. Оказалось, что мне нужно было ехать через Люблин, Холм или Влодаву. Я, истый варшавянин, принял Полесье за Литву, думая найти Сушу около Вильно или Гродно. Я исправил свою ошибку, посмеявшись над ней вдоволь, и пробирался по почтовой дороге на извозчике к назначенной цели своего путешествия. Перепрыгнем сразу к этому месту, пропуская скучную и медленную езду по закоулкам страны, о которой ты не имеешь ни малейшего понятия, потому что не видел ее собственными глазами.
Страна эта дикая, страшная, скучная, населена только крестьянами, евреями и экономами; по крайней мере, ничего другого я не мог здесь заметить! Я, который давно привык к удобному жилищу, к роскоши жизни, к наружному блеску, который в городе прикрывает недостаток, каждую минуту приходил в изумление, каким образом люди в такой нищете, в уничижении, в грязи и вони могут прожить хоть два часа? Первый мой ночлег в ужасной яме, которую здесь называют хорошей корчмой, показался мне вечным адом. Крестьяне, такие привлекательные в старых идиллиях и новых повестях, показались мне страшными, закоптевшими, во всем уродстве нищеты, и в таком свете, в котором можно себе представить их несколько веков тому назад. Как назло, даже природа не услаждала горьких впечатлений, какие производили на меня люди и все человеческое. Наша природа в октябре месяце, как тебе известно, нисколько не привлекательна и не нарядна; но я сомневаюсь, чтобы здесь и май был лучше. Огромное пространство занимали луговые болота, покрытые согнувшимися скирдами сена; кривые и бедные леса, желтые пески, редко покрытые сосновыми кустарниками, и над всем этим простиралось серо-грязное и мрачное небо, с которого падала какая-то неприятная влага.
Наконец, не знаю, в который день моего путешествия, когда мне не хватило сигар, табаку, французской водки, шоколаду, пирожного и конфект, купленных на дорогу у Лесля, я узнал, что нам осталось три мили ужасной дороги к Тужей-Горе и к дорогому деду.
Сознаюсь, сердце мое встрепенулось более от радости при мысли об отдыхе, нежели о моем почтенном дедушке, с которым я должен был познакомиться: мне нужен был более отдых, нежели дед. Одевшись по моде, я сел в коляску и присматривался, скоро ли покажется давно ожидаемая пристань? Увы! Не менее шести часов я должен был ехать эти три мили по болотам и кочкам, и только в полдень извозчик объявил мне, что корчма, в которой мы кормим лошадей, принадлежит моему деду. По первому предмету я хотел вывести заключение и о владетеле его, и потому с любопытством стал присматриваться к корчме.
«А! — подумал я, — если дедушка таков, как его корчма, то нечего ехать к нему». Представь себе самую жалкую хату, четыре низкие столба, забранные необтесанными колодами; в ней окошечко, впавшее в землю; зеленая крыша, поросшая мхом, полуразвалившаяся труба, кривые дверцы, словом — самый бедный шалаш на свете. Я решил, что старик слаб и нерадив, а слуги без толку управляют его имением. Лошади, отдохнувши, отправились дальше. Наконец, закончился однообразный лес; мы выехали на широкое поле, и вдали видна была гора, обросшая деревьями. Из-за сероватых ветвей уже высились башня костела и темные купола церкви. Приближаясь к Тужей-Горе, я взобрался опять на несносную плотину, возле которой стояли старые мельницы, покривившиеся и седые от мучной пыли; переехав через несколько чисто польских мостиков, я въехал, наконец, в местечко.