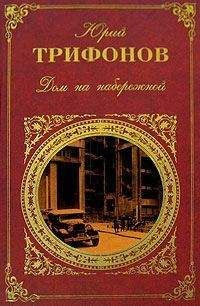Игорь Гергенрёдер - Донесённое от обиженных
«Ого, весомо!» — взыграла журналистская жилка у Юрия. Он был уверен «на семьдесят процентов» (оговорку всё же считал необходимой), что, по меркам высшего руководства, Житоров злоупотребляет должностной властью.
«Подбросить в Белокаменной кому повыше — глядишь, и дед не вызволит…» — за стаканом вина он разжигал в себе возмущение садизмом Марата: «Разнуздался, субчик! Перерождаешься в палача».
Кстати, вот о чём бы написать рассказ! Воображение дарило сцены, которые, вне сомнений, потрясли бы читателя… Но к чему думать о том, что никогда не дозволят воплотить? Не полезнее ли решить вопрос: пойти на прогулку или позвать горничную, которая посматривала вполне обещающе?
Рассудив, что гостиница без горничных не живёт, а проветриться — самое время, — он поспешил на улицу. Энергичным шагом, похожим на бег, шёл под высоким, в таявших облачках небом, и было приятно, что весенний свет нестерпим для глаз, а деревья скоро обымутся зеленоватым дымком.
Отдавшись звучащей в нём легкомысленной мелодии чарльстона, Юрий завернул в библиотеку. Его всегда влекли хранилища книг, где можно рыться с шансом напасть на что-либо малоизвестное, но примечательное — стилем ли, постройкой ли вещи.
На библиотеках страны сказывалась партийная забота об идейности, и Вакера заняло, что Есенин, которого пролетарская критика оярлычила как «реакционного религиозника», присутствует на книжной полке. Только что на улице Юрий видел театральную афишу, свежеукрасившую тумбу. Объявлялось: по драматической поэме Сергея Есенина «Пугачёв» поставлен спектакль. Режиссёр — Марк Кацнельсон.
Заметим, что первая попытка поставить «Пугачёва» относится к 1921 году, в котором поэма увидела свет. Мейерхольд задумывал сценически воплотить произведение в своём Театре РСФСР I — но всё так и окончилось проектом.
34
Наутро, в воскресенье, Житоров позвонил в гостиницу и пригласил приятеля к себе домой. Жил в десяти минутах ходьбы. Встретил он Юрия, облачённый в белые вязаные подштанники и в футболку. Ткань обтягивала развитые округлые мышцы ног, скульптурный торс. Марат выглядел выспавшимся.
— И у такого занятого начальства выдаются выходные! — располагающе улыбнулся гость. — Я свидетель редчайших минут.
— Ничего смешного — в самом деле, замотан. И сегодня свободен только до восьми вечера, — слова эти были произнесены со снисходительным дружелюбием.
Житоров занимал трёхкомнатную квартиру в доме, где обитали исключительно ответственные лица. Жена — спортсменка, инструктор ОСОВИАХИМа по управлению планёром, — не пожелав бросить работу, осталась в Москве. Супруги решили «пожить двумя домами» — учитывая, что Марат назначен в Оренбург не навечно.
Вакер прошёл за другом в гостиную. Полы, недавно вымытые приходящей домработницей, поблескивали бурой, со свинцовым отливом краской, что не шла к весёленьким золотистым обоям. Не под стать им был и тёмно-коричневый — по виду неподъёмно-тяжёлый — диван, обитый толстой кожей. Кроме него, в комнате стояли два кресла в чехлах, голый полированный стол, пара стульев, сосновый буфет (точно такой, как в номере Вакера) и тумбочка с патефоном на ней.
— Ну-у, мы на финише? Можно поздравить? — шаловливо и в то же время торжественно обратился гость к хозяину.
По недовольному выражению догадался: поздравлять-то и не с чем. Тем не менее Житоров произнёс с апломбом:
— В любую минуту мне могут позвонить, что признание есть! — встав перед усевшимся в кресло приятелем, брюзгливо добавил: — Сегодня пить не будем. Хватит! И-и… не знаю, чем тебя угощать…
— Угостишь чем-нибудь! — неунывающе хохотнул Юрий.
Хозяин, будто никакого гостя и нет, прилёг на диван, отстранённо развернул областную газету. Друг внутренне вознегодовал: «Смотри, как козырно держится, скотина!» Стало понятно — его пригласили из самодовольного, показного гостеприимства: «А то скажешь — ни разу в дом не позвал».
Он, однако, не пролил вскипевшей обиды, а, закинув ногу на ногу, задал тривиальный вопрос:
— Что интересного пишут мои местные коллеги?
— Да вот гляжу… производственные успехи, как обычно, растут… Ага, отмечается успех другого рода: самогоноварение из зерна изжито. Но из свёклы, картошки — продолжается… — пробегая взглядом столбцы, Марат подпустил саркастическую нотку: — Критика в адрес милиции, прокуратуры… куда смотрят органы на местах?
Он уронил газету на пол:
— Вот что я скажу. Какие ни будь у нас достижения, но и через сто лет самогонку будут гнать!
— Интересное убеждение чекиста! — поддел Юрий и, забирая инициативу, «поднял уровень» разговора: — Я вчера перечитывал Есенина — он бы с тобой согласился. Но я не о самогонке, хотя он в ней знал толк. Его поэма «Пугачёв» — вещь, примечательная прозрачными строками… Между прочим, место действия — здешний край. Ты её давно читал? Помнишь начало — калмыки бегут из страны от террора власти?..
Начальство, продолжил он пересказ, посылает казаков в погоню, но те — на стороне калмыков. Казаки и сами хотели бы уйти.
Он процитировал по памяти:
— «Если б наши избы были на колёсах, мы впрягли бы в них своих коней и гужом с солончаковых плёсов потянулись в золото степей…» — Читал дальше умело, напевно — о том, как кони, «длинно выгнув шеи, стадом чёрных лебедей по водам ржи» понесли бы казаков, «буйно хорошея, в новый край…»
Житоров слушал без оживления, покровительственно похвалил:
— Память тебе досталась хорошая.
Друг, считавший свою память феноменальной, обдуманно развивал мысль о поэме:
— Есенин начал писать «Пугачёва» в марте двадцать первого, когда вспыхнул Кронштадтский мятеж. На Тамбовщине пылало восстание…
Он выдержал паузу и произнёс в волнении как бы грозного открытия:
— В связи с этим создана антисоветская поэма! Воспето, по сути, крестьянское, казачье… кулацкое, — поправил он себя, — сопротивление центральной власти!
Я тебе докажу… — проговорил приглушённо от страстности, с суровой глубиной напряжения. Его лицу сейчас нельзя было отказать в подкупающей выразительности. — Во времена Пугачёва, ты знаешь, столицей был Петербург, из Петербурга посылала Екатерина усмирителей. А в поэме, там, где казаки убивают Траубенберга и Тамбовцева, читаем: «Пусть знает, пусть слышит Москва — … это только лишь первый раскат…»
Он был сама доверительная встревоженность:
— Ты понял, какое время имеется в виду?
Марат понял. Понял, но не дал это заметить. Мы же заметим относительно фамилии Траубенберг, что уже упоминалась в нашем рассказе. Жандармский офицер, который носил её, не придуман. Возможно, Есенин знал о нём и нашёл фамилию подходящей для поэмы. Или же мы имеем дело со случайным совпадением. Однако вернёмся к нашим героям.
Житоров, скрывая, насколько он впечатлён важностью того, что слышит, сыронизировал в притворном легкомыслии:
— Шьёшь покойнику агитацию — призыв к побегу за границу?
«Индюк ты! — мстительно подумал Юрий. — Будь я в твоей должности — анализом и дедукцией уже вывел бы, кто прикончил отряд!» Его так и тянуло явить этой помпадурствующей посредственности, как он умеет добираться до сердцевины вещей.
— Есенина хают, — сказал он, — за идеализацию старого крестьянского быта и тому подобное, но никто не сомневается, что он — патриот, что он влюблён в Русь. Так вот, этот русский народный, национальный поэт призывает массы обратиться к врагам России как к избавителям… Превозносит Азию, восхваляет монголов. Его Пугачёв упивается: «О Азия, Азия! Голубая страна … как бурливо и гордо скачут там шерстожёлтые горные реки! … Уж давно я, давно я скрывал тоску перебраться туда…»
Юрий замер, всем видом побуждая друга внутренне заостриться, обратить себя в слух:
— У Есенина Пугачёв заявляет, что необходимо влиться в чужеземные орды… — «чтоб разящими волнами их сверкающих скул стать к преддверьям России, как тень Тамерлана!» — с силой прочёл он.
Глаза Житорова ворохнулись огоньком, точно сквозняк пронёсся над гаснущими углями. Полулёжа на диване в хищной подобранности, он смотрел на приятеля с въедистым ожиданием.
Тот, как бы в беспомощности горестного недоумения, вымолвил:
— Чудовищно! Другого слова не подберёшь… Поэт, — продолжил он и насмешливо и страдающе, — поэт, который рвался целовать русские берёзки, объяснялся в любви стогам на русском поле, восторгается — мужики осчастливлены нашествием орд: «Эй ты, люд честной да весёлый … подружилась с твоими сёлами скуломордая татарва».
Гость угнетённо откинулся на спинку кресла и вновь подался вперёд с мучительным вопросом:
— А?.. Ты дальше послушай, — проговорил гневно и процитировал: «Загляжусь я по ровной голи в синью стынущие луга, не берёзовая ль то Монголия? Не кибитки ль киргиз — стога?..»