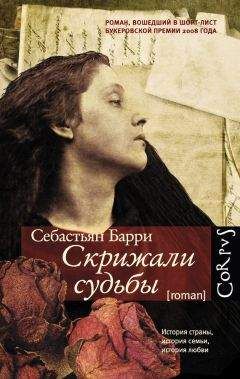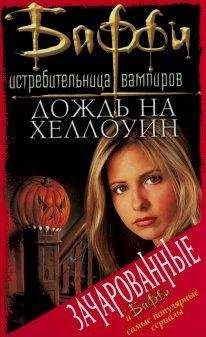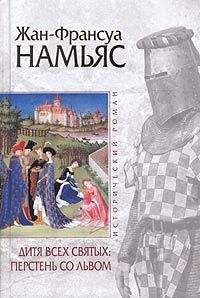Себастьян Барри - Скрижали судьбы
— Я тебя знаю, — сказал он, все его тело лоснилось на фоне песка, а на приятном, широком и круглом лице расплывалась улыбка. Вокруг нас уже собралась целая толпа, и его брат Джек тоже был там — на нем были неброские черные шорты, а тело у него, казалось, будто и не плоть вовсе, а камень какой, мышцы и жилы путешественника. — Ты девчонка из кафе «Каир».
А я рассмеялась — попыталась рассмеяться, в горле у меня булькала соленая вода.
— Ох, черт, — сказал он, — да ты глотнула океану. Наглоталась, ага. Господи, и где же твое полотенце? Полотенце у тебя есть? Есть? А одежда где? Ага, ну идем тогда. Идем со мной.
И вот мне на плечи накинули полотенце, а Джек аккуратно собрал всю мою одежду, и меня повели по раскаленной дороге к «Плазе» — там, где было можно, мы старались идти по траве у обочины, и, миновав пустыню автопарка, мы оказались в билетной будке, и Том все смеялся, уж, наверное, ему было легко и весело от того, что он меня спас. Не помню, получил ли он за меня еще одну медаль, но надеюсь, что получил, потому что, если хорошенько подумать, ее он точно заслужил.
Господи, как же трудно вспоминать радость тех дней, но, с другой стороны, мне ведь выпала редкая удача — пережить такую радость, такое счастье.
Я понимала, как мне повезло, как понимает это воробей, которому вдруг в одиночку достается целая крошка хлеба.
Да еще и гордость, ведь я так гордилась им, гордилась его известностью, его уверенностью в себе. Вот мы с ним идем между живых изгородей, поднимаемся по ступенькам в кинотеатр. Мы были будто голливудская парочка: я, наверное, Мэри Пикфорд, хотя, честно говоря, Том ростом не вышел для Дугласа Фэрбенкса.
Одно только было плохо — в Слайго все ужасно пили. Мужчины, вроде Тома и его брата, к ночи уже так надирались, что потом уж ровным счетом ничего не помнили, да и вряд ли хотели бы вспоминать, так что им это было только на руку.
И вот я, бывало, стою в зале, и так хорошо мне одной — я гляжу на сцену, где выстроился оркестр Тома, а там его щеголеватый папаша знай наяривает на кларнете, да хоть на каком угодно инструменте. Ближе к ночи Том обязательно играл «Замечательную девчонку»[32] и так и косился на меня, будто коршун. Как-то раз мы с ним гуляли по пляжу в Россес, и он дразнил меня, напевая «Когда гаснут в Каире огни», потому что я была девчонкой из кафе «Каир».
Был такой певец — Кеван О’Коннор, которому он вечно подражал, потому что считал его величайшим певцом на свете. Но потом Том увлекался и Джелли Ролл Мортоном,[33] и, как и все трубачи, сходил с ума по Бабберу Майли,[34] даже сильнее, чем по самому Луи Армстронгу. Том говорил, что Баббер встряхнул Дюка Эллингтона, тут и сомневаться нечего. Для Тома это все было так же важно, как и политика. Но едва он заводил про политику, как я тотчас же переставала его понимать. Все это было совсем неинтересно, не то что музыка. Вскоре я уже подменяла их пианиста, когда тот заболевал. У этого огромного парня, родом откуда-то с самых окраин Нокнари, была чахотка. Black Bottom Stomp — можно сказать, это был его коронный номер. Джек со сцены никогда не выступал, но любил спеть что-нибудь, когда только-только начинал набираться и становился такой веселый-развеселый. Тогда он заводил «Розы Пикардии» и «Путь далек до Типперери», потому что еще совсем мальчишкой он попал в Британский торговый флот, но об этом я, кажется, уже писала. Побывал во всех портах, от Коба[35] до Каира, но и про это я, по-моему, писала тоже. Быть может, оно стоит того, чтобы написать об этом дважды.
Джек то и дело ненадолго куда-нибудь уезжал. Одно время получал подряды на работу в Африке. Том страшно гордился Джеком, Джек ведь в Голвее получил сразу два диплома: по геологии и инженерному делу. Умнейший был человек. Должна признаться, что выглядел он раза в три лучше своего брата, да только это не имело никакого значения. Но он был хорош собою, похож на какую-нибудь кинозвезду в роли провинциального паренька, и вот сидишь, значит, в кино, смотришь какую-нибудь «Бродвейскую мелодию» или еще что-нибудь такое, а потом зажигают свет, и все снова оказываются в проклятом Слайго — все, кроме Джека. Был в нем какой-то голливудский лоск.
Но Джек держался от меня на расстоянии, и уж сколько между нами было метров, я даже не знала. Дружелюбным его назвать было сложно — уж слишком он был ироничен, все шутил да подсмеивался, и иногда я замечала, что он на меня как-то не так смотрит. Нет-нет, не так, будто хотел за мной приударить, а как-то неодобрительно. Подолгу так смотрел, когда думал, что я его не вижу. Всю оценивал.
Еще у Джека был «форд», в пару к кожаному воротнику его пальто. И мы вечно куда-то ездили в этом авто, видели тысячи ирландских пейзажей через его переднее стекло, стряхнули с него миллионы тонн дождя этими маленькими дворниками: туда-сюда, туда-сюда, а уж сколько галлонов виски они там выпили, пока мы разъезжали всюду. Самым шиком считалось добраться по мелководью до пляжа на острове Кони, так, чтобы с воплями и весельем промчаться по этой лужице воды. С нами всегда была куча друзей: самые хорошенькие девчонки, которые увивались за парнями из бэнда, и модники из Слайго и Голвея. И самое забавное — у Джека ведь была подружка, на которой он прямо собирался жениться, Май ее звали, но мы ее и в глаза не видели, потому что она жила в Голвее с родителями, которые были людьми очень состоятельными. Отец у нее был страховой агент — Джека это очень впечатляло, и в Голвее у них был не просто дом, а Дом с Названием, что тоже не могло не впечатлить человека, отец которого обшивал сумасшедших в психиатрической лечебнице Слайго. Они познакомились в университете, где она была одной из первых девушек-студенток, да и вообще она много в чем была первой, потому и смотрела на меня сверху вниз. Хотя тут я несправедлива, наверное, я и видела ее всего-то раз в жизни.
Вообще-то дурную услугу я оказываю Тому, когда пишу тут все это. Ведь его кузен был владельцем «Слайго Чемпион», и еще он был депутатом в нижней палате парламента — самого первого настоящего парламента, как про него тогда говорили, парламента, который образовался после подписания Договора. А Джек всегда говорил — я вечно слышала, как он рассказывал это каждому новому знакомому, — что был кузеном того самого Эдварда Карсона, бессердечного Карсона, который молниеносно отрекся от фристейтеров, будто крыса, которая соскочила с тонущего корабля, которая надеялась, молилась, что он потонет. Том рассказывал, что его родня импортировала — или экспортировала? — масло в Слайго, и у них были торговые суда, прямо как у Джексонов и Поллексфенов. И что второе его имя было Оливер — Томас Оливер Макналти, — потому что во времена Кромвеля у них отняли все их земли, когда Оливер Макналти отказался переходить в протестантство. Говорил, а сам осторожно косился в мою сторону, я ведь сама протестантка. Но я, наверное, была не из тех протестантов. Джеку нравились протестанты-помещики,[36] потому что сам он себя причислял к католической аристократии. Он уж, наверное, не думал об ирландских пресвитерианах. Это же был рабочий класс. Фраза-страшилка.
— Из этого парня рабочий класс так и прет, — то и дело говаривал Джек. После Африки у него появилось еще несколько странных присказок, вроде «будь как белый человек». И еще «хамма-хамма». А из-за того, что ему довелось перевидать сотни пьяных пирушек, он еще любил говорить: «Выпил — убери за собой!» Человека, который, по его мнению, не заслуживал доверия, он называл «хитрожопым».
Волосы у него были рыжие — каштановые даже, он их зачесывал назад. Черты лица резкие, взгляд пронзительный. Да уж, вылитый Кларк Гейбл, или еще лучше — Гэри Купер. Красавец.
* * *Я все ищу мать в этих своих воспоминаниях и не нахожу ее. Она просто исчезла.
Глава четырнадцатая
Сегодня утром по пути на работу я проехал мимо склона с ветряными генераторами, которых раньше не замечал. Быть может, я не замечал их потому, что их раньше там не было, но в таком случае я не заметил и того, как их там строили, а это, наверное, случилось не в один день. Вдруг, совершенно внезапно — и эти ветряки-мельницы. Бет говорила, что я вечно витаю в облаках. Как-то раз я пришел домой — на улице шел дождь, — сел на кушетку, а через пару минут, проведя рукой по волосам, спросил: «Отчего это у меня вся голова мокрая?» Бет обожала всем рассказывать эту историю, когда, конечно, еще было кому ее рассказывать.
И тут вдруг, из ниоткуда, взялись эти мельницы. На холме (хотя, наверное, это даже гора, если у нас в Ирландии и бывают горы), который называется Лабанакаллах, там еще лес начинается, Наджентов лес, и он растет аж до самой заснеженной макушки холма. Кто такой был этот Наджент, почему он посадил этот лес, уж никто не знает, разве что старожилы какие-нибудь. И вот я еду мимо него в своей «тойоте», на душе погано, в дурной моей голове все гудят упреки и обвинения, и тут вижу — мельницы вертятся серебристо, и сразу у меня сердце встрепенулось, будто перепелка вспорхнула из болота.